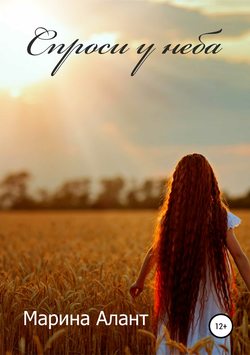Читать книгу Спроси у неба - Марина Алант - Страница 3
Глава 2
ОглавлениеУход матери разделил детство Тамары на две доли: счастливую и долю, полную забот.
Единственный ребенок и первая внучка в семье, она росла в изобилии любви и ласки. Дед по матери Сергей Дмитриевич Андреев принял внучку с большим умилением, возился с ней, качал колыбель, когда она громко и требовательно кричала, и назвал Тамарой как Лермонтовскую царицу.
Будучи сам из рода москвичей, свою дочь Клавдию выдавал замуж в селе Красильниково за двести сорок верст от Москвы и за пятьдесят от Рязани. По обрывкам воспоминаний известно о том, что до Сталинского режима он держал трактир.
Где именно в Москве и каким было сие заведение, выяснить возможным не представилось. Однако, как интересно узнавать о городских трактирах начала 20 века из рассказов современников. “Когда бывали свободные деньги, я (студент) обедал (в трактире) за пять рублей ассигнациями. На эту цену был обед почти роскошный: отличный вкусом суп с прекрасными пирожками; рыба – иногда судак под соусом а ля тартар, иногда даже угри; соус – какое-нибудь филе из маленьких птичек; спаржа или другая зелень; жареное – рябчики, куропатки или чирок, пирожное или желе из апельсинов или ананасов – и все это за пять рублей… В случае уменьшения финансов обедал (в другом подобном заведении) за общим столом: это стоило два рубля ассигнациями. Тут была уже не французская, тонкая и избранная кухня, сытные щи или густой суп; ветчина и говядина и тому подобное.”
Гурманы побогаче заказывали холодную белугу, семгу или осетрину с хреном, балык, икру, жареного поросенка с русской кашей, ботвинью (холодный суп на кислом квасе с щавелем, свекольной ботвой, шпинатом, крапивой и другой съедобной травой) с белорыбицей и сухим тертым балыком, кулебяку (сложный пирог) с начинкой в 12 слоев с налимьей печенкой и костяными мозгами в черном масле, окорок, рябчика с куропаткой. М-м-м-м…
Сладкое и мучное было обязательным блюдом в конце обеда. И самыми знаменитыми и популярными из такового являлись расстегайчики – приоткрытые в середине пирожки, как будто в расстегнутой рубашечке.
Если слово трактир перевести с латыни, то получится дом у дороги. Оно ведь и вправду, первые трактиры располагались у дорог при почтовых станциях. Они тебе были и место для столования, и постоялые дворы. А уж позже, когда эти места для разгула, свиданий и деловых всяких встреч стали очень популярными, строить их стали повсюду: и на главных улицах, и на площадях – гуляй не хочу. Горячительные напитки разрешалось продавать исключительно в трактирах. Даже в магазинах нельзя было, потому как много было пьянства среди народа.
За выпивкой и чаепитием совершались крупные коммерческие сделки. Интересно, что приходить в щегольских нарядах в трактиры считалось для деловых людей нехорошим тоном. И вот люди в поношенных засаленных сюртуках старомодного покроя, потертых сапогах, неопрятном галстуке оканчивали длительное чаепитие (с несчетным количеством чашек) какой-нибудь многотысячной сделкой. Эти люди в сальной, нестиранной по многу месяцев одежде “умны и очень сметливы, имеют хороший навык в своих делах и проводят большие дела мимоходом, употребляя при этом всегда одинаковые, известные фразы и знают наперед, как закончится их беседа”.
Для обеда с женщиной и детьми ходили в “чистые трактиры”, где с утра напиваться не разрешалось, а подвыпивших посетителей не пускали. Ну уж если нужен был разгул, то для этих целей служили подвальные этажи, разделенные на маленькие комнаты наподобие трюмов. Их называли дырами. Кроме залитых вином столов другой мебели там не было. Купцы в этих “дырах” чувствовали себя в отсутствии женщин вольготно и расслабленно и могли предаваться пьянству с утра до ночи. И бывало, встретив на следующий день опухшего купца, знакомые спрашивали его, уж не в дыре ли он вчера кутил?
Дорожившие своей репутацией трактиры к подбору персонала подходили ответственно. На половых, то есть официантов, учились чуть ли не с малолетства, чтобы в совершенстве владеть искусством подавать и рекламировать блюда, а также на зубок знать сложные названия ресторанной кухни, состав и особенности сервировки каждого из них.
“Мужики молодые и ладные, причесанные на прямой пробор с тщательно расчесанной бородой и открытой шеей одеты были в подвязанные на талии розовые или белые летние рубахи и синие, заправленные в сапоги, широкие штаны. При всей свободе национального костюма они обладают хорошей осанкой и большим природным изяществом,” – так оценил половых московского трактира в 1858 году французский писатель Готье. Его крайне поразило, что в гардеробах трактиров нет номерков, как и необходимости в них: прислуга безошибочно определяла, какому владельцу какая шуба принадлежит. Рабочий день половых длился семнадцать часов и невозможно было их увидеть сидящими, даже время между подачами они проводили на ногах, за чтением какой-нибудь газеты (все они обязательно были грамотными), при этом не упуская из виду столики с посетителями, которых они обслуживали. Интересно, что жалование половым не выдавалось – они сами должны были собрать к концу дня чаевые, которых выходило не так и скудно. Половые не имели право переходить на работу в другое заведение. Взять на работу чужого официанта было дурным тоном, а ушедший из трактира официант считался дурным человеком и работником.
Для музыки в трактирах стояли специальные машины – оркестрионы. В 20-м веке модными стали арфянки (барышни с арфой), затем – трио и квартеты живой музыки.
Только в 1914г в трактирах стали появляться женщины-половые, что вызвало недовольство, а то и забастовки официантов-мужчин.
А вот какая судьбоносная история с трактиром одним приключилась: был такой повар французский Люсьен Оливье. И вот они в компании с русским купцом Яковом Пеговым построили трактир на Трубной улице в Москве. Подавал там Оливье придуманное самолично блюдо под названием “Майонез из дичи”. Для него отваривали рябчиков и куропаток, мясо резали и смешивали с кубиками желе из бульона. Рядом изящно располагались вареные раковые шейки и ломтики языка, политые французским соусом провансаль. Чудо как вкусно! Очень уж любил Оливье украшать всячески свои приготовления, чтобы на произведения искусства были похожи. Вот он и украсил тарелку с этим блюдом картофельной горкой, перемешанной с маринованными корнишонами, а поверху посыпал ломтиками крутых яиц. Но вскоре повар увидел, как многие русские невежи поданный на стол “Майонез из дичи” сразу перемешивают ложкой как кашу, разрушая тщательно продуманный дизайн, затем раскладывают по своим тарелкам и с удовольствием едят эту смесь. От увиденного он пришел в ужас. Но на следующий день изобретательный француз в знак презрения демонстративно смешал все компоненты, обильно полив их майонезом. Успех нового блюда был грандиозен!
А теперь – самое удивительное! Весь этот рассказ ни что иное, как миф. Вернее, со временем люди перевернули правду, запутывая ее многочисленными слухами. Никакого француза не было и французского салата тоже. Исследуя факт создания салата Оливье, к такому выводу пришли ученые историки. Есть абсолютно известные из исторических источников факты следующего содержания: жил в Москве Иосиф Оливье, у которого был сын Николай Оливье. После смерти отца тридцатилетний Николай стал купцом второй гильдии и поменял имя на Люсьен в дань моде на все французское. Он, действительно, был совладельцем гостиницы с рестораном “Эрмитаж”, заведения весьма низкого качества. Лишь много позже после смены хозяев “Эрмитаж” стал рестораном для “чистых людей”. Сам он никогда поваром не был, однако известный салат, похоже, изобрели именно в его заведении. Доказательством того, что салат никак не французский, а исконно русский, является тот факт, что во Франции в 19 веке мелко крошить продукты считалось кощунством, и была принята крупная нарезка. Предшественник салата Оливье – всего лишь русское крошево. Также во французской кухне считалось варварством смешение мяса, птицы с овощами, это характерно именно для русской кухни. И еще один факт – соус. У французов применялась исключительно прозрачная заправка, чтобы было видно продукты. Белые соусы – это славянская традиция, потому супы, щи и борщи в России всегда забеливали (такого слова нет в кулинарии других стран) мукой или сметаной. И между прочим, салат Оливье везде в мире зовут русским салатом. Вот так.
А знаменитый ресторан “Прага” на Арбатской был сперва извозщичьим трактиром – так себе. Но купил его новый хозяин и сделал первоклассным рестораном для “чистой публики”. Надстроил, расширил, развел на крыше летний сад, залы украсил росписью и лепниной. Зеркала везде сверкали, будто стены осыпали бриллиантами. В ресторан стали приглашать лучшие цыганские ансамбли и исполнителей известных. Один француз, увидев в трактире купца, с аппетитом поедающего блины десятками, заподозрил едока в самоубийстве! Потом только разобрался и отошел от страха, когда понял, что купец-то доволен и весел. Рекордсменом же по обильности и длительности выпивания и закусывания в трактире был миллионер купец Чижов – многие часы, бывало, вкушал он пищу, с перерывами “на дрёмы” во время перемен блюд.
После 1917 года “Прага” была, конечно, национализирована, на какое-то время ее вывеску убрали: какие могут быть рестораны в годы военного коммунизма! В 20-е годы тут размещались Высшие драматические курсы и книжные магазины. В одном из залов на втором этаже долгие годы работала библиотека. А в 24 году здесь открыли общедоступную столовую Моссельпрома.
Маяковский писал:
Здоровье – радость, высшее благо,
В столовой Моссельпрома – бывшая “Прага”.
Там весело, чисто, светло и уютно,
Обеды вкусны и пиво немутно!
Ну а сегодня на столы той самой возрожденной "Праги" снова подают поросенка, стерлядь, осетрину и другие удовольствия для гурманов. Вот такой поворот истории вспять!
Любопытно, что с 19 века сохранились адресные книги “Вся Москва”. И был огромный соблазн погрузиться в эти издания с желанием найти прадедов трактир. А вдруг… Но нет, ничего после пролистывания почти двадцати ветхих книг далеких времен. Однако, и многих знаменитых и даже грандиозных трактиров Москвы также в них не оказалось. И вот почему. На первой странице некоторых изданий разместилась рекламка с просьбой редактора:
“Редакцiя покорнейше проситъ Гг. Московскихъ обывателей не
отказать ей въ присылке сведений, необходимыхъ для полноты и верности изданiя.
Гг. торговцы и промышленники приглашаются присылать сведения о ихъ торговыхъ и промышленныхъ предпрiятiяхъ съ указанiемъ спецiальности и адреса какъ самаго предпрiятiя, таъ и лицъ, предпрiятiю причастныхъ (владельцевъ, управляющихъ и проч.).” Далее обращения того же рода к владельцам частных учебных и лечебных заведений, врачам, присяжным поверенным и стряпчим, учителям музыки, пения и танцев, акушеркам, Гг домовладельцам и проч.
“Все эти сведенiя будут напечатаны БЕЗПЛАТНО.” И далее следует адрес редакции, а точнее “Конторы Справочныхъ изданiй” предпринимателя А.С. Суворина. В общем, кто хочешь, иди заявляй о себе. Кто-то не заявлял, тихо вел свое дело – оберегал.