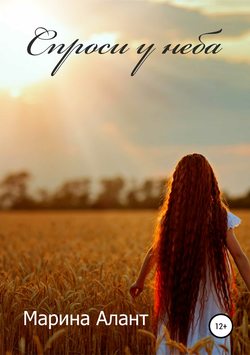Читать книгу Спроси у неба - Марина Алант - Страница 5
Глава 4
ОглавлениеНо тогда… Чтобы спасти семью и не пропасть от голода, Тамарин дед уехал за 250 км от Москвы в село Красильниково и купил крохотный домик с землей. Это место, крохотная точка, слившаяся с картографическим пейзажем России, сердечно родное на целое столетие, и стало родиной Тамары.
По преданию здесь с давних пор занимались крашением шерсти почти в каждом дворе, не только на личные надобности, но и в промысловых целях. С тех времен и повелось называть село Красильниково.
Земли здешние издревле были вотчиной потомка Рюриковичей, пожалованные еще Иваном Грозным за ратные заслуги. И пошел от него род Головниных, прославившийся подвигами в морских сражениях, поскольку по традиции отдавали старших сыновей служить на флоте.
До революции село было богатым, а крестьяне безгорестными. Были здесь заводы, кирпичный и крахмальный, мастерские по выделке кожи. Шили сбруи, строили кареты и тарантасы на всю Россию. Барин Сергей Головнин разводил борзых для охоты и на продажу, владел конезаводом. Крестьяне любили барина за его щедрость и сердоболие. На праздники Головнин лично объезжал свои села и дарил крестьянам подарки. Раз случилась большая засуха, такая, что колодцы до дна высохли. Урожай погиб до последнего листика. Барин каждому двору из своего запаса выделил по пуду картошки, овса и проса. Ни один человек не погиб от голода. В тот же год от суховея два дома сгорели, ничего от них не осталось, даже скотина сгинула в огне. Барин и тут помог: выдал погорельцам кирпич даром со своего завода и по лошади на двор. Была в селе и баня, которую топили трижды в месяц, и школа для крестьянских детей, и церковь, куда все женщины рода приезжали младенцев крестить. Оттого эта церковь считалась от бесплодия намоленной.
В дворянском высокообразованном роду были и знаменитости, ученые, послы, мореплаватели. Не даром еще с древности нарекли этот род Головниным за большого ума головы.
В революцию барин успел переправить родных за границу, а сам остался на родине, которая жестоко обошлась с ним. Барина арестовали, бросили на грязную унизительную работу – чистить выгребные ямы. Жители села Красильниково сообща отправились в Рязань к комиссару и добились освобождения барина. Возвращаться ему было некуда: усадьбу отняли. Но каждый житель позвал его к себе на проживание. Головнин поселился у бывшей кормилицы своего сына и провел там последние годы.
Худо стало крестьянам, которым крамольная власть пожаловала “новую” жизнь. В голодный 18 год отнимали излишки урожая, считая кулаками не только тех, кто увеличил свое хозяйство за долгие годы денно– и нощного труда, но и бедняков, кто последнее прятал от варварских рук.
В годы коллективизации та же беда пришла снова. Разорением прошлись и по середнякам, и по беднякам без разбору. Резали скот, уносили зерно. В Троице, соседнем селе, отбирали даже нижние рубахи, а еду, стоящую на столе, прямо тут и съедали на глазах у хозяев, так и не приступивших к трапезе. Троицкие рассказывали, как в ночь до судьбоносного собрания люди в кожаных пиджаках провели обыски и описи имущества во всех домах, а на другой день после этого собрали бедноту в крайнем доме, стали голосовать по списку. Зачитывали, у кого что нашли, и спрашивали, раскулачить его или нет. Если кто один из присутствующих выкрикивал “раскулачить”, то это считалось за постановление.
Дед – Андреев Сергей – никому не известный бывший трактирщик купил крохотный домишко не лучше бедняцких, и стал кормиться тем, что земля вырастит. Бог дал, выдержали все качания и причуды новой власти. Умер дед рано, жена Мария пережила его на добрых полтора десятилетия, да и то не при живых руках и ногах.
Мужа своего Дмитрия, богатыря и красавца, Клавдия встретила в клубе, что находился в дворянском доме сгинувших из страны Головниных. Раньше усадьба утопала в белом цветении сада, черемухи и каштанов, окружена была резными беседками и фонтанами. После экспроприации сады вырубили, фонтаны и беседки сломали, как ненужную народу роскошь. В бывшей бальной зале открыли клуб. В других комнатах устроили библиотеку, магазин и другие общественные организации.
Сам родом из-под Курска, отец возвращался с войны и остановился у однополчанина в Красильниково. А вечером сельская молодежь, как полагается, потекла в клуб на холме. Вместе с ней притек и Дмитрий. Клавдия там пела на сцене, участвуя в самодеятельности. Дмитрий увидел чернобровую, луноликую красавицу с раскосыми глазами, тоненькую как веточка, заслушался ее голосом и навсегда остался рядом с ней. Так все и было. А если разбирать данный романтический этюд по фактам, то после победы полк, в котором он служил, оказался в здешних местах. Известно о русском богатыре следующее: окончил три класса в с. Беседино Курской области. Росту был видного, около двух метров, а точно – метр девяносто. Отличался недюжинной силой и горячестью. Но горяч был из-за несправедливости, а не по какому-нибудь охальничанью, боже упаси. До войны служил на Кавказе два с половиной года, с мая 32 года по ноябрь 34-го. В армии на него, смелого и гордого, задирался один офицер младшего чина. Да так задирался, что однажды боец не выдержал и поколотил офицера. Тот, хлюпая подбитым носом, пообещал подвести Дмитрия под трибунал. Тогда солдат решил в свое спасение слегка покалечиться. Разбежался и ударился о стену. Пришли начальники, увидели побитого Дмитрия, по-своему все поняли. Больше после этого младшего офицера-задиру никто в части не видел.
Был Дмитрий женат, но с женой – Прасковьей Дмитриевной – развелся по собственной воле из-за несносного ее характера. Соседи в армию писали, что она обижает мать Дмитрия, ругается на нее и морит голодом. Такого он стерпеть не мог, очень любил и уважал маму. Вернулся из армии – выгнал жену с громким скандалом. Детей, слава богу, с ней не случилось. Были два его брата, да оба померли. Потом всеобщая мобилизация. Война.
С войны Дмитрий вернулся уже в знатном возрасте, христовом. Понятно, что пора было жизнь устраивать с хорошей женщиной и деток заводить.
Клавдия и муж ее Дмитрий жили хорошо, спокойно. Хотя года послевоенные были голодные, слыли они людьми небедными. Дмитрий и в милиции работал, и в лесничестве. На столе мясо не редкостью бывало. На зависть соседским детям маленькую Тамару как барыню катали в саночках, обитых заячьим мехом. Рассказывал сам, будто поутру открывал дверь сторожки сразу с ружьем: под первым же деревом как есть заяц стоял.
А баранки, которые отец из Троицы на связке приносил, и с маком, и с ванилью, увившись ими как бусами, Тамара соседским детям носила. Хлеб, что соседка пекла, ей вкуснее любых сладостей казался. Запах от хлеба далеко за порог шел, аж слюной рот наливался. А у соседки орава немалая, да в придачу голодная. Слаще хлеба соседская ребятня и лакомства не видала. От Тамариных баранок и крошки не оставалось, все “подметали”. Вот и меняла Тамара с удовольствием отцовы гостинцы на хлеб стряпанный, за стол садилась вместе со старшими детьми, а сопливых малышей на руках тискала, как кукол: соседка их все рожала и рожала. Мать бранилась на Тамару: дома полный стол, дескать, зачем соседей, концы с концами еле сводящих, объедать. А Тамару все равно душистый, соседский особый запах манил. Да и с трудом она понимала, что не все живут одинаково. Помнит, правда, что мама и бабушка Маша одевались как-то иначе, чем остальные женщины. Никто больше на селе платьев с воротничками не носил, как и пальто с мехом, а одевались все в телогрейки и причесок не делали, прятали волосы под платками. А матери Тамариных друзей постоянно ЕВОНкали, ПУЩАЙкали, ОТКЕЛили и ИДТИТЬкали. Клавдия и бабушка Маша говорили иначе, по-книжному, и не кричали через пять дворов. А больше того мама запомнилась Тамаре сидящей за швейной машинкой или за книгой, и еще тихонько и ласково напевающей за делами. А дядя Алексей, хоть и пару раз наведывался к ним из Павлова Посада, таким умным Тамаре казался, что с мужиками сельскими и сравнивать нельзя было.
И помнит еще Тамара, как сосед в своем саду рубил яблони и вишни, как падали расстрелянными телами наливные стволы, простирая по земле белокудрые ветви. Как еще минуту назад стремящаяся к весеннему солнцу жизнь рассыпАлась белой тенью. Тамарин отец ругал нехорошего человека со странным именем Налог, но свои деревья не трогал. Зато ловил домашних птиц, кричащих на весь двор, и уводил со двора поросят. Прятал. А через несколько дней возвращал обратно.
Пока исполинский мир представал глазам ребенка по-матерински дружелюбным, единоличным и совершенно бескорыстным, главные взрослые люди старательно его “улучшали.” “Корректировали” зарплаты в меньшую сторону, считали сотки и все, что на них бегало и росло, аннулировали “нетрудовые” (на своем хозяйстве) накопления. Словом, трудились над мерами по “искоренению мелкобуржуазной психологии“. Мужик на селе уже не мог один прокормить семью, и женщины все повально шли в колхоз трудиться. А свое хозяйство теперь стало не подспорьем семье, а подрывной деятельностью.
Дмитрий тогда из милиции и ушел, не хотел прижимать земляков. Не по нутру, говорил, ему это. Пошел в колхоз работать и в короткие сроки сделался бригадиром животноводства. Трудолюбия было ему не занимать. А Клавдия образование замечательное имела. Дед Сергей всех выучить успел, денег не пожалел. Сыновьям инженерное образование дал, а дочери модистками пожелали. Старшая Анна вышла замуж и в Ленинград уехала. Клавдия, младшая, в Красильниково с родителями осталась. И при ней – машинка Зингер, дорогая, отцом для нее купленная. Потому и стол не пустовал, и в одежде обделенности не было, а счастливая Тамара, задумчивая своими интересными и манящими задумками, качала ножками на скамейке перед домом и привычно провожала взглядом деревенского прохожего с дырявой котомкой, всегда просящего милостыню.
Клавдия шила исправно, бралась и за платья, и за пальто, ездила в город обшивать всю семью своей дальней родни. Про ее мастерство знали не только в округе, но и в соседних селах и деревнях. Платили за ее труды мукой и всякими ценными продуктами.
А как пела Клавдия! Заслушаешься. И шьет – поет, и готовит – поет. А по выходным пела на сцене в сельском клубе: приглашали выступать.
Все успевала талантливая Клавдия: и шить, и петь, и в колхозе работать. С раннего утра в поле делянку руками полола. А делянка на одного человека никак не меньше гектара бывала. И хозяйкой Клавдия тоже была отменной. В доме всегда прибрано, спали чисто, ели вкусно. Горенка маленькая была, но уютная, и все в ней помещалось. В углу кухонька находилась с группкой – маленькой печкой. На ней пекли блины, оладушки, сырники. Со своей коровой были и творог, и сметана, и масло сливочное. Томили каши на молоке. Для этого группка не подходила. Чугунки ставили в большую печку, которая долго тепло держала.
В горенке три окошка было. Клавдия любила украшать их на зиму, как принято в селах и деревнях. Окна в их доме краше других были, такая Клавдия была мастерица. Она не только по традиции сугробы воображаемые из белой бумаги делала, блестящим дождем устилая, а мастерила тряпичных кукол, одна лучше другой, нашивала им пестрые платья и сажала между стеклами. И так хотелось Тамаре поиграть с этими куклами, что однажды, когда отца с матерью не было дома, она принялась выковыривать пальцем из окон замазку, чтобы добраться внутрь рам. Натрудив палец до боли, она выскребла уже почти все липкое препятствие, как вернулись родители. Тамара быстро задернула занавеску на оголенном окне, спрятала сизый палец за спину. Ее “труды” заметили в хороший мороз, когда окно дыхнуло холодом. А куклы продолжали манить девочку из стеклянного заточения, дразня яркими пышными юбками.
Мороз Тамара запомнила не только по цветастым куклам в раме, но и на вкус, когда, уткнувшись в запертую дверь, лизнула снежок на металлической ручке. Мать так и потянула на себя дверь вместе с Тамарой. Всплеснув руками, бросилась за чайником, теплой водой отлила примерзший язык от дверной ручки.
Но пуще маленькая ее родина запомнилась Тамаре цветущим садом. А сад у Холодовых был такой, что залюбуешься. Яблоки на зубах ароматным соком растекались. Любила Тамара яблоки, лучше своих и не пробовала, а все равно вместе с мальчишками в чужой сад лазала. Ни один сарафан на ней не держался. Тамара то гвоздем клок оторвет, то за сук зацепится, с дерева сошмыгивая. Мать дело поправляла. Розочку из лоскутков пришивала на дырявое место или карман приставляла туда, где розочка была не к месту.
С нарядами однажды вышла комичная история. Мать утром ушла на работу, приготовив дочери завтрак и чистую одежду в школу. А Тамара решила лучше всех нарядиться. Надела цветастое платье матери и туфли на каблуках. На плечо повесила модный ридикюль. Так и пошла в школу. Идет, неудобными туфлями пыль загребает и в платье путается. Все на нее смотрят, и думает Тамара, что краше и нет ее. Хорошо, до школы дойти не успела. Матери соседи сообщили. Она Тамару догнала, домой развернула. Сама смеется, а сквозь смех ругается.