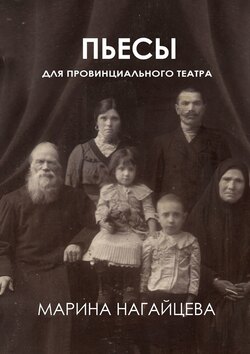Читать книгу Пьесы для провинциального театра - Марина Нагайцева - Страница 12
Часть первая. Евдокия
Глава одиннадцатая
ОглавлениеЗа работу
Утро следующего дня началось с недобрых событий.
– Граждане раскулаченные, я – Тихон, приставленный к вам надзиратель. Все живы-здоровы?
Небольшого роста плечистый человек в телогрейке и войлочных бурках с галошами стал протискиваться между плотно сидящими людьми, пристально всматриваясь в их лица, будто пытаясь запомнить своих подопечных раз и навсегда.
– Господи Боже, – воскликнул он, наткнувшись на безжизненные тела, и снял шапку-ушанку.
Отошли в мир иной самые пожилые мужчина и женщина, на вид лет семидесяти или больше. Они так и застыли на полу: скрюченными от холода, с открытыми, беззвучно кричащими ртами. Предсмертная агония перекосила страдальцев, сделала совершенно неузнаваемыми их лица.
– Царствие небесное рабам Божьим…
Имена их были никому неизвестны. Сверка переселенцев ещё не проводилась.
Похоронили скончавшихся за церковью, в яме, наскоро вырытой среди сосен. Из веток соорудили подобие креста.
– Весна придёт, земля помягчеет, тогда и перезахороним по-человечески, – пообещал Тихон.
Никто из прощавшихся не проронил ни слова: каждый думал свою горькую думу о том, кто же завтра ляжет в эту промёрзлую северную землю, чтобы остаться в ней навеки вечные безымянным странником без роду и племени?
– Значит так. Все, кто в состоянии двигаться, за работу! Хлеб в первую очередь – работникам, – объявил Тихон. – Больные женщины и дети могут оставаться в церкви.
И вот зазвенели пилы, застучали топоры, распугивая окрестных белок.
Лица работников побелели: кто нос отморозил, кто щёки и уши.
– Хорошо, давайте, пока морозы крепкие, полчаса трудимся, полчаса греемся, – согласился надзиратель с требованием работающей стороны.
До сумерек успели повалить несколько деревьев, нарубили дров.
Развели на улице костёр. Все высыпали из церкви и радовались огню, подставляя промерзшие руки и спины.
У кого-то оказалась металлическая кружка. Принялись растапливать снег и пить по глотку горячую воду, передавая её из рук в руки.
Древесина быстро разгорелась, ветер подхватил искрящуюся хвойную россыпь и подбросил в небо длинные, красные языки пламени.
Татьяна
– Танюш, ну как ты? А я тебе хлебушек и воблу принёс, нам за работу выдали. Скушай, Тань, тебе силы нужны, – Филипп изо всех старался поддержать жену.
Она совсем исхудала за последние дни вынужденного голодания.
– Как сыночка назовём, Тань?
– Геночкой пусть будет. Надо бы его покрестить, Филипп. Ты батюшку найди где-нибудь. А Дуся и Вася пусть крёстными идут.
– Покрестим, обязательно покрестим. Ты только поправляйся скорее! Как славно получится-то, ты послушай: дочь Шурочка и два сыночка – Женя и Гена.
– Шура, Жеша и Геша, – улыбнулась она мужу.
Но на третий день Татьяне стало совсем худо. Её колотил озноб и мучила жажда.
– Воды! Пить! Дуся, пить!
Евдокия приподнимала голову Татьяны, и та пыталась напиться талой водой из миски, которую где-то раздобыл Василий.
Молоко у неё не пришло, кормить Гену было нечем. Иногда мальчик просыпался, несколько минут его бессмысленный взгляд блуждал в пространстве.
– Глазки у сыночка синие, как небо! Так на Филиппа похож, на папочку своего. Славный наш малыш, – Евдокия не выпускала младенца из рук, баюкала и согревала его.
Татьяна вдруг начала причитать:
– Помру я, Дуся! Нехорошо мне. Ты уж позаботься о детях.
– Танюша, нельзя тебе помирать, и не думай об этом! Деткам мамка нужна. Ты живи, ради них живи! Вот Шурочка с Женей рядом сидят, и Геночка твой ждёт хоть молозива глоточек, подкрепиться ему надо. Что же он у нас на голодном пайке? Приложи-ка его к груди, Таня!
– Нету ничего, ни капли, пустая я, – заплакала Татьяна.
К вечеру младенец умер. Тихо-тихо так, даже голоса не подал, не заплакал ни разу.
Георгий и Филипп сколотили ему последнее пристанище, вырыли неглубокую ямку рядом с тем местом, где ещё вчера похоронили старика со старухой.
Евдокия собрала Геночку в последний путь: обмыла, запеленала в свой пуховый платок. Она не могла поверить в его смерть. Всё прижимала свёрточек с тельцем к себе и тихонько напевала:
– Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду, мышка за печкою спит, месяц в окошко глядит…
– Вы уж извиняйте, что так вышло. С детьми-то тут совсем беда, – расчувствовался надсмотрщик Тихон. – Царствие небесное сыночку… Да простит нас Бог!
– Не будет вам прощения ни на земле, ни на небе. Не будет! Никогда не будет! Слышите?!! Никогда! – вскричала Евдокия. – Вот, смотрите, что вы творите! Вы морите голодом матерей! Вы убиваете детей!
Филипп бережно уложил сына в дощатую колыбельку и понёс к выходу.
Василий и Георгий подняли Татьяну, и процессия двинулась к месту погребения.
Женщины и дети шли сзади: Елена и Евдокия вели за собой крошечных Витю, Капу и Женю, а Прасковья и Шура несли в руках лучины.
Опустили Геночку в мёрзлую землю уже по темноте.
– Господи, даруй блаженному младенцу вечный покой со святыми…
Филипп встал на колени перед могилкой сына:
– Прости нас, сынок! Прости, что не уберегли тебя!
– Наш маленький птенчик улетел от нас, теперь он на небесах, – прошептала Татьяна и потеряла сознание.
Сотни теней, окруживших могилку, безмолвно следили за сценой прощания.
Первая детская смерть потрясла всех, кто волею судеб оказался в этой заброшенной церкви.
Мужчин стали уводить дальше, в глубь леса, вблизи церкви все деревья уже были срублены. Они подолгу не возвращались, теперь только раз в день им разрешали перекусить и отдохнуть.
Пока мужчины трудились на лесоповале, женщины пытались организовать быт: им удалось выпросить у надсмотрщика котелок, корыто и мыло, они установили очередь на пользование этими немудрёными благами и занимались хозяйством, стирали детские вещички, варили похлёбку из воблы.
Внутренность пустынного здания ожила, наполнилась банными парами, запахом варева, гомоном ребятни и озабоченными голосами женщин, колдовавших над обедом: засохшую рыбу, превратившуюся в камень, сначала размачивали в воде, а потом варили.
Варёная вобла жутко пахла, но давала маломальский навар и соль, и от этого вонючая жидкость превращалась в съедобный бульон.
Здоровье Татьяны по-прежнему внушало опасение. Жар у неё спал, но сама она очень ослабла.
Вспоминая умершего сынишку, приходила в отчаяние и выла тихо, горько: так скулят собаки по умершим щенкам.
– Поплачь, поплачь, моя хорошая. Горе надо выплакать, – Евдокия гладила её по волосам, она ни на минуту не оставляла больную невестку.
– Ты искупай меня, Дуся, перед смертью.
– Тань, не думай о смерти! А помыть тебя, действительно, надо. Что же ты у нас после родов так и не очистилась? Я сейчас попрошу корыто, нагрею воду и искупаю тебя, может, и вся хворь выйдет, – сказала Евдокия.
– Ты, Дуся, передохни чуток, я сама нагрею воду, девочки за детьми приглядят. А потом вместе Таню искупаем, – предложила Лена.
– Спасибо, Леночка! Ты такая заботливая, добрая девочка.
– Дуся, я же вижу, ты все ночи не спишь, да и днём тебе отдыха нет. Поберегла бы ты себя. Мы ведь с тобой можем по очереди смотреть за Таней, – сказала Лена и обняла Евдокию за плечи.
От этого искреннего участия сердце Евдокии встрепенулось навстречу, как будто душа душе открылась, и она, уткнувшись в Леночкино плечо, расплакалась.
Никогда раньше женщины не были подругами, общались редко и мало, встречались только на семейных праздниках.
Леночка была самой молоденькой мамой в семье Просянкиных: Татьяне исполнилось тридцать четыре, Евдокии шёл тридцать третий год, а ей – девятнадцатый, совсем ещё девочка! Рядом с сыном и дочкой Леночка смотрелась старшей сестричкой.
Услужливая и вежливая, она старалась угодить всем Просянкиным, хотя уже целых пять лет официально носила их фамилию и была полноправным членом большой и дружной купеческой семьи.