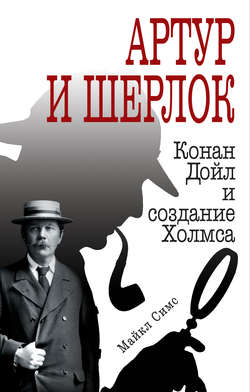Читать книгу Артур и Шерлок. Конан Дойл и создание Холмса - Майкл Симс - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Доктор Белл и мистер Дойл
Глава 2
Способности к дедукции
ОглавлениеНет ничего удивительного в том, что, зная такого человека, я использовал и развивал его методы, когда позднее попытался создать персонаж детектива, который, применяя научный подход при расследовании преступлений, достигал этого благодаря своим собственным знаниям и умениям, а не воспользовавшись промашками преступника1.
(Артур Конан Дойл. «Воспоминания и приключения»)
Способность к «ясновидению» при постановке диагноза, так поражавшая Артура Конан Дойла, была присуща не только Джозефу Беллу. Учитель будущего писателя принадлежал к поколению наблюдательных, проницательных европейских врачей, которые, располагая ограниченным набором диагностических средств и анализов, имели дар наблюдательности и аналитические способности. Они были знамениты и популярны. На рубеже XIX века специалисты-медики стали придавать большое значение внимательному наблюдению за пациентами и подвергать критике ненаучные представления традиционной медицины о возникновении заболеваний. Еще Гиппократ в V веке до нашей эры стремился открыть механизмы возникновения патологических процессов в теле человека, а не гадать, какое божество или дух следует винить в появлении той или иной болезни. Но после него понимание того, что тщательность наблюдения является ключевым фактором точной диагностики и качественного лечения, в истории медицины встречалось нечасто.
Австрийский терапевт и дерматолог Фердинанд фон Гебра, ставший в 40‑х годах XIX в. основателем знаменитой Венской школы дерматологии, тоже пользовался подобными приемами в процессе осмотра пациентов, делая наблюдения за оставшимися на теле пациента следами его профессиональной деятельности и особенностями его образа жизни. В диагностике он использовал свой патологоанатомический опыт, а также результаты многолетней практики по лечению пациентов, страдавших чесоткой и экземой. Сам Фердинанд фон Гебра учился в Университете Вены у профессора медицины, патологоанатома чеха Джозефа Шкоды2. Это был первый преподаватель в университете, который читал лекции не на латыни, а на немецком языке. Именно профессор Джозеф Шкода обучил Фердинанда фон Гебру основам дерматологии, которая ранее считалась не слишком уважаемой специальностью в медицине. Профессор Джозеф Шкода высоко ценил способности Фердинанда к диагностическому наблюдению и экстраполяции, а также его дар образно и живо, основываясь на фактах, излагать материал на лекциях.
Фердинанд фон Гебра часто мог без единого вопроса точно определить возраст, вес и место рождения пациента, равно как и чем он болен, а также род его занятий. Он советовал своим студентам не спрашивать пациента, есть ли у него зуд от сыпи, а посмотреть, есть ли на коже следы царапин. По мозоли на подушечке большого пальца Фердинанд фон Гебра делал вывод, что пациент работает шляпником. По бархатистости кожи лица и красноватому носу он узнавал любителя коньяка или пива. Подержав пациента за руку, он замечал, например, характерные следы от уколов иголкой на указательном пальце и говорил своим студентам: «Этот человек – портной»3.
Фердинанд фон Гебра, как и Джозеф Белл, слыл не только компетентным преподавателем, но и прекрасным оратором. Один не изучавший медицину студент как-то сказал, что он «ни черта не смыслит в дерматологии», но ходит на лекции Фердинанда фон Гебры, потому что считает их более захватывающими, чем постановки знаменитого венского театра «Театр дер Вьен».
Однажды к нему вошел, хромая, пациент. Присев, он начал разматывать повязку на своей ноге. Посмотрев на него, Фердинанд фон Гебра объявил своим ученикам: «Это хорват, пятидесяти пяти лет от роду, болен туберкулезом легких, а по профессии он портной».
Студенты помнили, что ранее профессор определил портного по следам игольных уколов на его пальцах. Но в этот раз Фердинанд фон Гебра еще не успел коснуться руки этого человека. Студенты скептически отнеслись к такому выводу преподавателя.
«Как, разве вы сами не видите, что он портной? – удивился фон Гебра. – Посмотрите на этот клочок серой ткани, которым он закрепил повязку из бинта. Из такой ткани портные обычно делают подкладки для жилетов».
В те времена ремесленники и рабочие, как правило, одевались очень похоже, их одежда напоминала своеобразную униформу, а труд был в основном ручным, поэтому для таких выводов сверхъестественного чутья не требовалось, достаточно было дотошно изучить все приметы и особенности. Еще в начале 50‑х годов XVIII в. Сэмюэль Джонсон, ставший для Артура Дойла одним из самых любимых исторических деятелей благодаря написанной Джеймсом Босуэллом необычной биографии этого выдающегося человека, написал в своем журнале «Рэмблер» такую красивую аналогию, ставшую впоследствии хорошо известной цитатой:
«Если долго повторять какое-либо действие или стоять в одной и той же позе, это неминуемо калечит и уродует наше тело. Так и ум подобным же образом калечит непрестанное повторение одних и тех же мыслей. О профессии ремесленника легко догадаться по его коленям, его пальцам или его плечам; немного найдется среди людей более возвышенного труда таких, чей ум не будет отмечен печатью его рода деятельности и по разговору которых нельзя будет сразу понять, к какому классу общества они принадлежат».
Сэмюэль Джонсон использовал свою наблюдательность не только в литературе. Он лично принял участие в расследовании дела пресловутого коклэйнского призрака и помог раскрыть схему того, что Джеймс Босуэлл назвал «жульничеством»[4]. Спустя сто лет после публикаций Сэмюэля Джонсона (и через десять лет после рождения Артура Конан Дойла) один французский врач, Огюст-Амбруаз Тардьё, опубликовал солидное исследование о диагностической ценности стигмы (видимых характерных признаков заболевания), которая появляется в результате профессиональной деятельности человека. Огюст-Амбруаз Тардьё, специалист в области судебной медицины и токсикологии, подробно осветил эту тему в своем труде «Изучение физико-химических изменений в некоторых частях человеческого тела, вызванных различной профессиональной деятельностью, и их значение для установления личности при проведении медико-правовой экспертизы»4. Тардьё упомянул и других замечательных диагностов, отличавшихся наблюдательностью. Это и француз Жан-Николя Корвисар, основоположник кардиологии и личный врач Наполеона, и ученик Корвисара, Гийом Дюпюитрен, отличавшийся независимостью и свободомыслием хирург и анатом. Последний стал настолько широко известен, что послужил прототипом героя рассказа Оноре де Бальзака «Обедня безбожника», а также был упомянут в романе Гюстава Флобера «Мадам Бовари»5. Кроме того, к таким диагностам относился и Арман Труссо, французский терапевт, который первым описал ранние симптомы злокачественных опухолей, позже получившие название «признаки Труссо». Сам он также обнаружил у себя эти признаки рака, от которого вскоре и умер.
Артур Конан Дойл посещал пятничные занятия медицинского факультета Эдинбургского университета, проходившие в хирургическом зале Королевской клиники. Эта полукруглая аудитория-амфитеатр находилась на самом верху главного здания6. Скамейки ярусами окружали деревянный отполированный операционный стол, под которым стояла оловянная ванна, наполненная опилками для впитывания стекающей крови7. Ничего удивительного, что студенты испытывали неуверенность и смущение в присутствии доктора Джозефа Белла, который подавлял их своим авторитарным тоном и начальственным видом. Он железной рукой управлял и пациентами, и студентами. Если порой потенциальный пациент давал понять, что не собирается иметь дело с обычными студентами в ожидании возможности проконсультироваться у доктора Джозефа Белла, тот просто выставлял его из клиники8.
Как-то раз перед собравшимися студентами предстал, хромая, пациент, даже не снявший пальто перед входом в аудиторию. Доктор Белл обратился к одному заметно нервничавшему юноше в зале: «Скажите, на что жалуется данный пациент? Спуститесь вниз, сэр, и взгляните на него!»9
Студент нерешительно подошел к пациенту.
«Нет! – вдруг рявкнул Белл. – Не прикасайтесь к нему!» Он настойчиво требовал от растерявшегося студента: «Используйте зрение, сэр! Используйте слух! Используйте свой мозг, свою шишковидную железу восприятия», – добавил он, намекая на уже развенчанную «науку» френологию. Затем доктор Белл вернулся к своей обычной теме: «И примените свои дедуктивные способности».
Юноша с опаской осмотрел пациента и наконец отважился высказать диагноз: «Заболевание тазобедренного сустава, сэр!»
Белл откинулся на спинку стула и скрестил длинные тонкие пальцы под подбородком. «Никакой тазобедренный сустав у него не болит! – насмешливо фыркнул он. – Он хромает, потому что у него болят ноги, а точнее, ступни ног. Если бы вы внимательно понаблюдали, – продолжил он, – вы бы увидели, что у него на башмаках прорехи, конкретнее надрезы, в тех местах, где обувь сильней всего давит на ступни. Это человек страдает от мозолей, господа, а с тазобедренными суставами у него все в порядке».
Затем доктор Белл сообщил, что этот первый диагноз был сущим пустяком по сравнению со второй проблемой пациента. Джозеф Белл сказал: «Он пришел сюда лечиться не от мозолей, господа. Мы не педикюром тут занимаемся. Его беда гораздо серьезней. Он страдает хроническим алкоголизмом». Пациенту, должно быть, было не слишком приятно услышать, как Белл описал его внешность: «Покрасневший нос, опухшее, отечное лицо, налитые кровью глаза, руки дрожат, мышцы лица подергиваются, височные артерии учащенно пульсируют – все указывает на то, что перед нами алкоголик».
И Белл лукаво повторил свое мнение о необходимости искать подтверждение своим предположениям: «Все эти выводы, господа, подтверждаются совершенно бесспорными и однозначными доказательствами». Говоря это, он указал на оттопыренный правый карман пальто пациента – оттуда торчало горлышко бутылки виски.
В другой раз Белл угадал и выставил на обозрение всего курса подробности жизни одного из студентов вместо пациента10. Юноша, как ни старался, не смог поставить диагноз какому-то пациенту. Доктор Белл негодующе смотрел на это, а потом отчеканил: «Достаньте свою тетрадь, молодой человек, и посмотрите, получится ли у вас таким образом выразить свои мысли».
С этими словами он повернулся к удивленным студентам в аудитории и изрек цитату из Библии: «Очи имеют и не видят, уши имеют и не слышат!»
Доктор Белл вновь повернулся к студенту, который в этот момент случайно выронил письмо, нервно вытаскивая тетрадь из кармана. Он попытался спрятать письмо, но не успел.
«Вы родом из Уэльса, верно, сэр? – резко спросил Белл (сам он был коренным шотландцем, родился и вырос в Эдинбурге). – Я так и думал! Человек, который говорит «силлинг» вместо «шиллинг», который так раскатисто произносит «р», который говорит с таким своеобразным, грубоватым и очень сильным акцентом, как вы, сэр, – это не шотландец. Вы и не ирландец, и не англичанин. От вашей манеры речи пахнет Уэльсом».
Тут доктор Белл на минутку отвернулся от сгорающего со стыда юноши и, обращаясь к другим студентам, объяснил, что в подтверждение его выводов имелось еще одно свидетельство, помимо акцента. Джозеф Белл заметил, что упавшее письмо, подписанное женской рукой, было адресовано «мистеру Эдварду Джонсу». «Таким образом, господа, это и есть его имя, а судя по почтовому штампу на конверте, оно было отправлено вчера из Кардиффа. Кардифф находится в Южном Уэльсе, а имя Джонс еще раз подтверждает, что наш друг – валлиец».
Джозеф Белл казался Артуру Конан Дойлу и его сокурсникам бесконечно колоритной личностью11. Он подъезжал к университетским воротам на своем низком ландо – четырехместной коляске с двумя парами сидений друг напротив друга и откидной крышей, а впереди, на облучке, восседал кучер в ливрее, покрикивающий на пару гнедых, которых дети доктора прозвали Большая и Маленькая. Старожилы клиники понимали, что вольно или невольно доктор Белл подражал своему уважаемому учителю, профессору Джеймсу Сайму, знаменитому университетскому преподавателю и хирургу-новатору, который умер в 1870 году12. Однако Джозеф Белл не доходил до того, чтобы полностью копировать желтую карету своего наставника с цветастыми выгнутыми рессорами.
Джозеф Белл считал Джеймса Сайма проницательнее и наблюдательнее себя, хотя кроме него мало кто позже вспоминал о Сайме как об исключительно наблюдательном диагносте13. Джозеф Белл любил цитировать девиз Сайма: «Постарайтесь так же хорошо изучить особенности заболевания или травмы, как хорошо вы знаете особенности, походку и манеры своего самого близкого друга»14.
Джозеф Белл окончил Эдинбургский университет в 1859 году (в том же году родился Артур Конан Дойл). Затем под руководством профессора Джеймса Сайма молодой доктор Белл работал терапевтом в Королевской клинике15. Профессор Джеймс Сайм был университетской легендой, служил образцом одаренности и преданности делу, был предметом гордости университета. С детства увлекаясь химией, Джеймс Сайм еще подростком открыл, что каменноугольный деготь, маслянистый осадок, получаемый в результате переработки угля, может быть использован для получения раствора, подобного каучуку или индо-каучуку16. Таким образом, этот раствор можно было применять для пропитки тканей, например шелка, для создания водонепроницаемых тканей. Химик из Глазго Чарльз Макинтош запатентовал подобный метод, а затем стал производить новый вид пальто из водонепроницаемой ткани, вскоре названный его именем.
В университетской клинике доктор Белл был и общим хирургом, и преподавателем анатомии, и хирургом глазного отделения. Однако его хорошо знали и далеко за пределами Эдинбурга. В течение нескольких лет он был редактором «Эдинбургского медицинского журнала», уважаемого во всей Европе и в Америке. Он был известен и как автор популярного учебника «Руководство по хирургическим операциям для студентов старших курсов, хирургов‑практикантов, а также среднего медицинского персонала». («Передо мной стояла цель описать как можно проще наиболее распространенные операции, особенно те, в выполнении которых, в силу их особенностей, можно попрактиковаться на мертвом теле»17.) Джозеф Белл был потомком целой плеяды врачей-практиков Эдинбурга. Его дед, Чарльз Белл, впервые описал синдром, позже получивший название «паралич Белла». Поколениями в семье Беллов сыновьям давали поочередно имена Бенджамин и Джозеф.
Джозеф Белл быстро сделал великолепную карьеру. В возрасте двадцати одного года он блестяще защитил диссертацию по эпителиальному раку перед традиционно придирчивыми скептиками из Эдинбургского Королевского медицинского общества, которые по окончании защиты стоя рукоплескали молодому доктору18. Выдающийся профессор анатомии Уильям Тёрнер, признанный авторитет в этой области с 1865 года, вспоминал, что за два года, которые доктор Белл провел на посту преподавателя анатомии в начале своей карьеры, «исполняя обязанности моего помощника, он приобрел заслуженную популярность среди студентов за свою наблюдательность, умение ясно излагать материал, а также за то, что всегда был готов помочь им в любых затруднениях, неизменно находя ободряющие слова»19.
Артур Конан Дойл тоже считал, что Джозеф Белл отличался добротой и неизменно добросовестно относился и к обучению студентов, и к лечению пациентов20. Как преподаватель, профессор Белл требовал от своих студентов только то, чему научился он сам, и считал свое требование справедливым. Доктор Белл учил своих студентов не только диагностике, но и состраданию. Оказание помощи страждущим Джозеф Белл считал религиозным долгом и всегда с готовностью выполнял его. Он был страстным натуралистом, охотником и садовником. Любовь к природе, равно как и стремление помогать людям, Джозеф Белл черпал в вере21. Когда в 1865 году Джозеф Белл женился, его мать сообщила его молодой жене, что сын был «с колыбели посвящен Богу»22, и молодожены приняли решение жертвовать десятину своих доходов церкви23. Его жена умерла в 1874 году, оставив Джозефу двух маленьких дочерей и сына24. Артур Конан Дойл познакомился с Джозефом Беллом два года спустя, но тот все еще переживал эту утрату, глубоко скорбя в душе. Несмотря на множество дел, доктор Белл почти никогда не пропускал воскресные службы, на которых присутствовал вместе с детьми.
Свои религиозные убеждения Джозеф Белл издавна привык подтверждать делами. Отвага и самоотверженность Белла стали также причиной появления у него резкого, пронзительного голоса и хромоты. В начале 60‑х годов XIX века молодой Джо Белл, в те времена перегруженный работой фельдшер, оказывал помощь страдающим и умирающим больным во время многочисленных эпидемий. В воды реки Лит, которая, извиваясь, лениво течет через Эдинбург, разделяя город на две половины, видимо, сбрасывались также и все нечистоты города25. В течение нескольких лет жители Эдинбурга страдали от эпидемий холеры, тифа и оспы, но в начале 1864 года в измученном городе началась еще более свирепая вспышка дифтерии. Артура, которому на тот момент еще не было и пяти, судьба от этой болезни уберегла.
Дифтерия получила свое название от греческого слова, означающего «кожа, пленка». Один из симптомов дифтерии был увековечен после эпидемии в Испании в 1613 году, который получил наименование «El Año-dе-los-Garrotillos»: «Год удушенных». У заболевших дифтерией в гортани появляются серая слизь и кожистые пленки, затрудняющие дыхание26. Кроме того, у больных сильно болит горло, воспаляются и распухают гланды, поднимается высокая температура, и, как правило, начинается воспалительный процесс в сердце.
Выпускник и преподаватель Эдинбургского университета, знаменитый хирург Фрэнсис Хоум писал, что горло перекрывается удушающими серыми дифтерийными пленками подобно «устланной одеялами кровати»27. Именно Фрэнсис Хоум ввел в обиход название «круп», звукоподражательное местное словцо, которое имитировало характерное хрипение в горле при определенном респираторном заболевании28, но дифтерия была страшнее крупа. Фрэнсис Хоум, родом из Бервикшира, был в университете профессором фармакологии, преподавал происхождение, состав и свойства лекарственных средств. Фрэнсис Хоум впервые в мире произвел вакцинацию против кори и даже служил хирургом в драгунском полку во Фландрии. Он был одним из титанов медицины, до которых таким студентам, как Джо Белл, казалось, никогда не дотянуться.
Симптомы дифтерии были известны уже много веков, но лишь незадолго до описываемых событий врачи признали, что именно это заболевание в середине XVIII века называлось эпидемическим крупом, злокачественной ангиной, а также страшным morbus strangulatorius[5]29. Причину возникновения дифтерии объясняли по-разному: от трупных газов, которые выделяют разлагающиеся туши животных, до холодной погоды, от болотных испарений до неизбежных сверхъестественных манифестаций30. К счастью, магия как причина возникновения дифтерии больше не рассматривалась. Помимо этого, в 1876 году (Артур Конан Дойл был тогда студентом-первокурсником) было сделано открытие, что возбудителем сибирской язвы является определенный вид бактерий. Это научное открытие давало надежду, что вскоре будет обнаружена и причина заболевания дифтерией, от которой люди страдали уже столько веков.
В 1864 году доктор Белл, движимый состраданием к детям, задыхавшимся от дифтерийных пленок, страстно желал найти способ их удаления из горла больного. До тех пор никому еще не удавалось изобрести такой инструмент. Когда он с помощью пипетки попытался высосать дифтерийные пленки из горла ребенка, часть удаленной слизи и пленок попала ему в рот31.
После этого он сам заразился дифтерией и проболел несколько месяцев32. Три недели у Джозефа Белла ужасно болело горло, затем боль понемногу пошла на убыль, а друзья впервые заметили, что он начал гнусавить. Джозефу Беллу казалось, что у него в носоглотке появилась какая-то мембрана, мешавшая ему говорить отчетливо. Три недели спустя у него почти пропал голос, начало двоиться в глазах. Боль в горле вроде улеглась, но глотать становилось все труднее. Нередко получалось так, что при глотании часть жидкости попадала в носовые проходы, и Джозеф Белл делал понюшку табака, чтобы с этим справиться. Кроме того, у него отказала одна нога, появилась боль в груди.
Сам профессор Джеймс Сайм прописал ему для восстановления здоровья уехать куда-нибудь в сельскую местность и соблюдать постельный режим, и Джозеф Белл удалился в свое родовое имение в Гледойке на реке Тэй, к северу от Эдинбурга. На какое-то время доктор Белл утратил способность самостоятельно передвигаться, даже опираясь на трость, и ему пришлось в конце концов согласиться, чтобы сначала кто-то один, а потом и два человека поддерживали его под руки, когда нужно было куда-то идти. Со временем Белл смог снова глотать без затруднений. Постепенно восстановилась дикция, но тембр голоса навсегда остался высоким и пронзительным. Белл проболел дифтерией целых четыре месяца, и только после этого к нему вернулась способность ходить почти так же быстро, как и до болезни, но от хромоты он так никогда и не избавился33. В январе 1865 года Джозеф Белл выступил на заседании медицинского хирургического общества с докладом об этой болезни, о ее течении и полученном на этой основе медицинском опыте34. Позже этот доклад был опубликован в журнале «Эдинбург Медикал Джорнал», и, несмотря на исключительно спокойное и подробное изложение событий от третьего лица, читатели постепенно понимали, что перед ними автобиографическая драма.
Много лет спустя доктор Белл не уставал вновь и вновь повторять, что врачу в равной степени важно уметь сопереживать своему пациенту и ставить точный диагноз. Показывая Артуру Конан Дойлу и другим студентам, как опытный наблюдатель замечает тренированным взглядом особенности и признаки, которые не видят люди неподготовленные, и может на основе этих сведений быстро понять характер и образ жизни другого человека, Джозеф Белл тем самым доказывал им, что его метод диагностики при всей своей театральности не был просто театрализованным представлением. Он призывал своих студентов постоянно повышать уровень своих теоретических знаний, неустанно штудируя профессиональные журналы, и подкреплять таким образом свой практический опыт. Доктор Белл всегда оставался для Артура Конан Дойла образцом настоящего ученого, интеллектуала – и при этом в высшей степени нравственного человека. Артур Конан Дойл часто расспрашивал доктора Белла о его построенном на наблюдении методе диагностики, а тот любезно отвечал на все вопросы своего студента. Артур Конан Дойл навсегда запомнил уроки своего наставника и практические занятия с ним.
4
История «коклэйнского призрака» в 1762 г. была весьма громкой и скандальной. На поверку «дом с привиденьем» на улице Коклэйн (откуда и название истории) оказался своего рода сценой для попытки должника скомпрометировать кредитора при помощи призрака, обвинявшего кредитора в убийстве. Обман вскрылся («призраком» оказалась дочь кредитора), несостоявшиеся мошенники были осуждены и наказаны. С процесса над салемскими ведьмами, где суд всерьез рассматривал «сверхъестественные доказательства», прошло всего семьдесят лет. – Прим. ред.
5
Morbus strangulatorius (лат.) – гнойная ангина; дословно: удушающая болезнь. – Прим. ред.