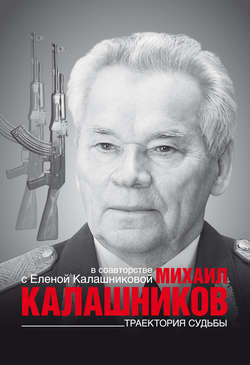Читать книгу Траектория судьбы - Михаил Калашников - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Детство
ОглавлениеО жизни нашей семьи мне часто писали и рассказывали старшие сестры – Гаша и Нюра. Многого из того, что мне стало известно о наших предках, я не знал. Хорошо, что память моих сестер сохранила подробности тех лет. Я очень благодарен им за помощь в написании этих страниц!
Предки наши жили на северном Кавказе в станице Отрадное. Как вспоминали мои сестры, фамилия прадедов по отцовской линии якобы была не Калашниковы, а Калашник, а во второй половине девятнадцатого века они, добавив окончание «ов», изменили ее на русский манер.
Дед мой, Александр Владимирович Калашников, был единственным сыном в семье сельского учителя. Мой отец, Тимофей Александрович, родившийся в 1883 году, тоже был единственным сыном у Александра Владимировича и Катерины Тимофеевны.
Моя мама, Александра Фроловна, была из многодетной, зажиточной семьи Кавериных, имевших в роду даже священников. Замуж за Тимофея Калашникова она вышла по любви, но вопреки желанию своих родителей – семья моего отца была хотя и работящая, но небогатая.
Поженившись в самом начале двадцатого века, мои родители сразу же стали строить свой дом – обычный для тех мест саманный (турниковый) дом – «мазанку», завели скот. В 1903 году у них родилась первая дочь Рая, в 1905 – вторая, Агафья (Гаша), а в 1907 – сын Виктор. Жизнь молодой семьи была хоть и в согласии да любви, но трудная. Да и не бывает на селе жизни легкой, беззаботной – не будет у крестьянина достатка без мозолей на руках да бессонных ночей!..
Постепенно семья Калашниковых вставала на ноги – крепло хозяйство, росло подворье. У них появилась и своя сельскохозяйственная техника – веялка «Зингер» и молотилка. Отец всегда мечтал о больших урожаях, но пахотной земли у него для этого было маловато…
Время больших перемен в России не обошло стороной и станицу Отрадное. Когда в начале 1910 года пошел слух о раздаче крестьянским семьям земли в далекой Сибири, многие станичники задумались. Ведь тут, на северном Кавказе, земля хоть и плодородная, но наделы маленькие – большую семью не прокормить!
В том же году только из Отрадного уехало несколько десятков семей – искать свое счастье «за тридевять земель» от родных мест.
Решились на великое переселение и Калашниковы: молодая семья и родители моего отца – Александр Владимирович и Катерина Тимофеевна. Конечно, жаль было покидать родную станицу и навсегда расставаться с многочисленными родственниками, но стали они собираться в дорогу. Дорога предстояла дальняя, и брать с собой нужно только самое ценное, основное: крестьянскую технику, зерно и одежду. Остальное они отдали родным «на хранение» – до той поры, как в Сибири разбогатеют и вернутся домой, в Отрадное. Им тогда очень хотелось в это верить…
Так мои родители с двумя стариками, тремя маленькими детьми – 3,5 и 7 лет от роду – и крестьянским скарбом рискнули отправиться в дальний путь, в новую неизвестную жизнь! Думаю, не просто было решиться на переселение моему отцу Тимофею Александровичу, ведь он, как глава большой семьи, брал на себя все заботы, все волнения, все тревоги. И наверняка за долгое время пути он не спал ночей, задавая себе одни и те же вопросы: «Что за земля там, в Сибири? Плодородна ли она? Можно ли быстро поднять хозяйство на новом месте?» К тому же, в их семье ожидалось рождение четвертого ребенка, а значит и прибавление хлопот…
Мои родители всегда мечтали о большом и крепком крестьянском хозяйстве, о многодетной семье с множеством сынов.
Поэтому они очень надеялись, что на новом месте у них родится мальчик, на которого они получат дополнительный надел пахотной земли. Ведь землю выделяли только на мужские души! Не знаю, сбылись ли тогда их мечты насчет земли, но про сынов знаю точно – сбылись. Правда, значительно позже. А тогда в октябре 1910 года на Алтае у них родилась третья дочь Анна.
Как рассказывала сестра Гаша, до будущего места жительства семья добиралась очень долго, месяца полтора: «Сначала ехали на поездах в «телячьих» вагонах до Ново-Николаевской (Новосибирска), а потом уже до места добирались на конях. Тятя (так мы звали нашего отца), наверно, их купил в Ново-Николаевской…»
Вот так наша семья, покинувшая родные места в поисках лучшей жизни, и оказалась на моей родине в алтайском селе Курья! Почему именно в Курье, сейчас сказать трудно. В тот год многие переселенцы из родной станицы осели именно там. Некоторые из них даже свои дома с Кавказа перевезли!..
Выбрав участок земли для строительства дома на берегу небольшой, быстрой речки Локтевка, родители начали обживаться на новом месте: строить дом, подворье, возделывать полученную пахотную землю, выращивать скот. Огород разбили за домом, с выходом на речку: и с поливкой удобно, и дети всегда будут под присмотром. Работали всей семьей с раннего утра и до поздней ночи, стараясь поскорее поднять хозяйство. В семье, наконец-то, один за другим появились долгожданные сыновья – Иван и Андрей.
За многочисленными крестьянскими проблемами и заботами и не заметили Тимофей Александрович и Александра Фроловна, как в 1917 году в Россию пришла революция. Та самая, которая обещала «освободить их от каторжного труда и дать волю, землю и счастье».
Революция – обещала, а крестьянское хозяйство – обязывало! Некогда было Тимофею Александровичу вникать в революционные изменения. Главная забота крестьянина – прокормить семью. А семьи у многих тогда были большие – ведь в то время дети появлялись без особых раскладок и планов, «как Бог даст». Они, конечно, добавляли родителям забот, но и давали надежду на будущее: когда подрастут – работников в хозяйстве будет больше!
Моя мама, Александра Фроловна, родила восемнадцать детей, но из них выжило лишь восемь – две девочки Агафья (Гаша) и Анна (Нюра) и шесть мальчиков – Виктор, Иван, Андрей, Михаил, Василий и Николай. Моя старшая сестра Рая умерла от тифа в возрасте восьми лет, вскоре после переезда семьи на Алтай. Остальные дети умирали, часто не дожив и до года. Сейчас в это трудно даже поверить, но тогда детская смертность в России была очень высокая.
Помню, как мама, приехавшая в гости к нам в Ижевск, рассказывала о тех временах, о моих детских годах и о себе моим маленьким дочерям. Отвечая на их вопрос, сколько же всего у нее было детей, она принималась считать с помощью пальцев рук, называя каждого ребенка по имени:
– Параня, Гаша, Николай, Виктор, Иван, Нюра, Николай, Иван, Николай, Андрей, Михаил, Василий, Татьяна, Николай…
Девочки удивленно возражали ей:
– Бабушка, ты почему-то назвала двух Иванов и трех Николаев!
Мама с грустью объясняла им:
– Да это потому, что те, первые, умерли!.. Да и ваш-то отец чуть не помер! Миша в детстве был очень слабым, все болезни к нему так и приставали. Благо, в рубашке родился!..
В нашей семье часто вспоминали о моем рождении, говоря: «Наш Миша родился в рубашке… прямо в сенях»! Вот так, холодным осенним днем 10 ноября 1919 года, я и пришел в этот мир…
Моя мама всегда жила в постоянных и нескончаемых работах по дому. И в тот день, принеся воду из колодца, она едва успела поставить ведра на привычное место и повесить коромысло на гвоздик, как тут же в сенях и произвела на свет мальчика, которого назвали Мишей.
Родился я хилым и очень болезненным ребенком. Как говорили родные, не было такой болезни, которой бы я ни болел. Все детские болезни, буквально одна за другой, а то и сразу несколько, уживались в моем и без того слабом тельце.
Будучи еще совсем маленьким, я чуть было не помер. Настолько тяжело я тогда болел, что наступил момент, когда родители стали сомневаться, дышу ли я? Они поднесли легкое куриное перышко к моему носу, проверяя дыхание. А так как оно даже не шелохнулось, то решили, что жизнь моя остановилась…
Тут же, как часто бывало в деревнях, в нашем доме появился деревенский плотник и, замерив палочкой мой рост, вышел во двор мастерить гробик. И вдруг я начал подавать признаки жизни. Что тут началось! Бабушка бросилась к иконам читать благодарственные молитвы, а радостные родители побежали к плотнику со словами: «Жив! Жив!» Тот же, прекратив стучать топором, даже выругался в сердцах – не то на меня, не то на родителей, которые не могут определить, жив ли их ребенок?
Этот случай не прошел для меня без последствий. В Курье о нем вспоминали не раз. И мне всегда было очень обидно, если кто-то, рассердившись на меня, вдруг говорил: «Ты уже с детства научился притворяться!»
Еще одна детская болезнь оставила о себе долгую память: когда мне было около пяти лет, заболел я оспой. Все мое тело покрылось мелкой сыпью, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Мне очень хотелось ногтями расчесать, разодрать все эти пузырьки на коже. Родители, пытаясь меня остановить, повторяли: «Если ты будешь чесаться, то станешь таким же рябым, как соседская девочка Соня». А лицо у той Сони мне всегда казалось похожим на терку, которой терли картошку на крахмал для киселя. Зуд же был настолько велик, что иногда я был согласен походить и на Соню… Видя, как я потихоньку ковыряю болячки, родители стали связывать мне руки. И, несмотря на их старания и мои мучения, эта болезнь все-таки оставила свои отметки на моем лице. Уже взрослым юношей я проводил малоэффективные опыты по избавлению от этих немногочисленных следов оспы. Расскажу, как это было.
Во время службы в Армии в 1940 году я был командирован в Москву, где и разыскал институт Красоты (так ли он назывался, не помню). Там мне пообещали провести специальный курс лечения по удалению следов, на всю жизнь оставленных этой тяжелой болезнью. Не знаю почему, но я не решился быть пациентом под своей фамилией, а записался как Иванов – благо, что не требовался паспорт. И вот, в очередной раз придя на прием к врачу, я вдруг не среагировал на свой псевдоним: забыл, что Иванов – это я. Меня тут же подвергли тщательному врачебному осмотру: выяснить, нет ли у этого Иванова каких-либо побочных явлений от предыдущего лечения?.. Служба в армии и война не позволили мне тогда провести рекомендованные докторами еще два-три сеанса. Ну, а потом, после войны, время и возраст изменили мое отношение к столь незначительному недостатку моей внешности, и я успокоился.
Вернемся к годам моего детства. Когда был ребенком, много раз слышал, как мама, понизив голос, таинственно говорила соседкам: «Миша должен счастливым вырасти – ведь он родился в рубашке». И добавляла, глядя на лампадку и на иконы в красном углу: «А я берегу ее – храню там!»
После таких разговоров мне всегда хотелось взглянуть на ту рубашку, из-за которой я должен стать счастливым. Но сначала мне надо было ее найти…
И вот однажды, дождавшись редкого момента, когда остался в избе один, я подтащил стол поближе к углу, поставил на него табуретку, залез на нее и снял верхнюю икону. Отчего-то мне казалось, что необыкновенная обнова, которую от меня скрывают, находится именно в ней. Отогнув маленькие гвоздики, я снял у иконы крышку, но ничего особенного за ней, кроме толстой фольги и бумажных цветов, не нашел…
Мое любопытство было сразу же обнаружено, и за первым разочарованием последовало второе – я был наказан отцом изрядной «выволочкой». Он «дал мне ремня», приговаривая: «Теперь-то ты понял, что там?!» А мне было обидно и непонятно – за что отец меня наказывает: за порчу иконы или за злополучную рубашку? Спросить его я так и не осмелился.
Да, много хлопот я доставил своим родителям, много слез пролила моя мама, пока я вырос! Как говорится, со мной пришлось им горя хлебнуть…
Несмотря на то, что рос я болезненным и слабым мальчиком, всегда меня тянуло к ребятам постарше, к ровесникам моих братьев Ивана и Андрея. Я изо всех сил старался не отставать от них, быть с ними на равных во всех их затеях. Это стремление иногда приводило к плохим последствиям…
Помню, было мне всего лет шесть-семь, когда начал я бегать с братьями на замерзшую речку Локтевку. Обычно стоял на берегу и с тайной завистью смотрел на ребят, которые катались на самодельных деревянных коньках, подкованных полоской железа или проволокой. Я тогда мечтал о том времени, когда смогу кататься с ними вместе, скользя по расчищенному ледяному кругу. Возвращаясь с прогулки домой, я всячески уговаривал старшего брата Виктора смастерить мне такой же конек.
И вот, наконец-то, моя мечта сбылась: Виктор сделал конек, и сам прикрепил его веревочкой к моему валенку. Большего счастья невозможно было представить – и я, хромая от непривычки, сразу поспешил к реке, где катались ребята. И как на грех вышел на лед недалеко от нашей проруби! Стоило мне первый раз в жизни оттолкнуться одной ногой и заскользить на другой, как я тут же оказался в воде… Наверняка утонул бы, да спасла шуба старшего брата: распустившись веером, вернее, надувшись, как парашют, она держала меня по пояс в проруби.
Мои братья подняли крик и бросились бежать к дому, чтобы сообщить родителям о случившемся. Я не помню, как меня достали из воды и как принесли домой. Помню только, что в доме сразу же раздели догола и положили на русскую печь – туда, где сушился овес. Тепло, которое набрали зерна, тут же передалось мне, из меня градом начал лить пот. Родители еще долго не разрешали мне выбраться из овса и слезть с печки: боялись, что я могу заболеть чахоткой.
Слава Богу, все обошлось: разогретое зерно сделало свое доброе дело. Я на всю жизнь запомнил целительное тепло разогретого овса и часто вспоминал о нем, когда замерзал в военные годы в танке, потом и в госпитале, а после войны – на рыбалке или охоте. Стоило мне вспомнить теплую гору того овса, как сразу становилось теплей. Хотя бы на душе…
Но вот беда: кататься на коньках я так и не научился. Пробовал, надо сказать, неоднократно, и уже на настоящих коньках и на настоящем ледяном катке – на стадионе, но… нет, и все!
Раз уж заговорил о воде, то надо, пожалуй, рассказать и о «рекорде», который я чуть позже летом установил при нырянии.
Речка Локтевка, протекавшая через наше село, не была широкой и глубокой, но имела множество опасных мест – омутов, которых побаивались даже взрослые. С виду спокойная, она унесла не одну человеческую жизнь, затягивая неосторожных людей в свои коварные ловушки. А потому родители строго наказывали нам держаться подальше от этих мест. Нас же они и пугали, и притягивали!
Многие из нас, пытаясь продемонстрировать свою отчаянную храбрость, старались проплыть около самого омута. Однажды я тоже решил себя показать! И вдруг, оказавшись рядом с легкими завихрениями воды на границе омута, я почувствовал, что меня неудержимо тянет вниз. Как сейчас помню: вместо того чтобы сопротивляться потоку и пытаться вынырнуть из него, я, испугавшись, сжался в комок и начал безвольно опускаться все глубже и глубже на дно. Оказавшись сидящим на корточках на дне, я все сильнее сжимался и глотал воду. Когда с ужасом понял, что тону, в отчаянии открыл глаза и увидел перед собой растущую на дне зелень – она мирно подрагивала и вилась вверх. Трудно сказать, как долго я был в состоянии полного оцепенения. Помню лишь последние проблески сознания – мое детское воображение представило плачущую мать и всех родственников и соседей, плотным кольцом окруживших меня мертвого на берегу. И все они говорили одно и то же: это какая-то злая сила затащила Мишу – сам он не мог туда заплыть… Все это, как мне помнится, я ощутил весьма реально! А вот что было дальше, память не сохранила.
Как потом рассказали, подоспевшие на помощь взрослые ребята вытащили меня из воды, положили на одеяло и, приподняв его над землей, начали туда-сюда меня перекатывать. Перекидывали из стороны в сторону, откачивая воду. А потом прибежали перепутанные родители и окончательно привели меня в чувства.
Этот случай тоже оставил след в моей жизни: я и по сей день не умею плавать. Сколько раз я пробовал научиться, сколько лет не оставляло меня желание преодолеть этот обидный недостаток! Но все напрасно. Всякий раз, отплывая от берега на пять-десять метров, я с трепетом оглядываюсь на заветный берег, с ужасом ощущая под собой пугающую неимоверную глубину! Наверно, трудно представить, чтобы взрослый человек не мог пересилить тот страх, который однажды испытал в детстве. Но это так.
Как вспоминали мои сестры, наша семья на Алтае жила не голодно, но и не богато. Чужих людей отец никогда не нанимал, свои же – не сидели без работы. Старшие дети едва смогли научиться читать и писать: Гаша ходила в школу два года, Виктор – три, а Нюра и вовсе не училась. Не до учебы было – все они с ранних лет помогали по хозяйству: Гаша и Виктор работали в поле с родителями, а Нюра занималась с маленькими братьями-сестрами, которые звали ее не Нюрой, а Нянькой (так и осталась она для всей семьи «Нянькой» до самой смерти)…
Наше хозяйство на селе ничем особенно не выделялось. Дом был небольшой: одна общая комната, кухня и сени. Построен он был по «кавказским» традициям: в комнате пол деревянный, а на кухне, где готовили на печке, – мазанный, земляной.
Сестры рассказывали, как каждую субботу они мучались с тем самым земляным полом: «В комнате вымоешь чисто, а станешь кухню мыть – только грязь разведешь. Намочишь землю, намажешь и ждешь, пока она высохнет. Если раньше начнут ходить, то вся сырая земля в чистую комнату тут же тащится. И тогда – прощай, уборка! Иногда, чтобы долго не ждать, набрасывали солому на сырой пол. И опять «не слава Богу» – подмести такой пол невозможно: вдоволь наглотаешься пыли!»
Зимой вся семья спала в комнате: родители и дедушка с бабушкой на кроватях, а дети – на печке, на полатях или на лавках. Летом было раздольней – многие из нас перебирались спать на сеновал.
Обедала наша большая семья двумя группами: старшие – бабушка, дедушка, отец, мама, Виктор, Гаша и Иван – за столом. А мы, младшие, ели на полу, сидя на какой-нибудь постеленной тряпке вокруг большой чашки. Еду нам подавала Нянька – Нюра.
Наши родители одевали нас, маленьких детей, в самотканную одежду. У моей мамы была швейная машинка, на которой она шила мальчикам длинные рубахи, заменявшие и штаны, и рубашки. Так мы и ходили в них лет до семи, пока не начинали стесняться своего вида и требовать мужской одежды.
Гаша и Виктор с малого возраста работали наравне со взрослыми в поле. Летом они были «погонышами» лошадей на пашне и на молотилке, ходили за плугом и за бороной, пасли скот, косили сено и укладывали его в стога. А зимой они вдвоем это сено возили с поля домой. И всякое случалось с ними на том пути…
Отправлялись ребята ранним утром на пяти, редко – на трех, санях и ехали за несколько километров от села. Там работали весь день – надо было каждый стог ото льда и снега обчистить, замерзшее сено в сани вилами накидать, укрепить его, обвязать. А чтобы часто не ездить, на каждую повозку старались нагрузить сена побольше. Да так, что из-за него и лошадь было не видно. Вот такой вереницей стогов сена и возвращались домой: Виктор управлял первой повозкой, а Гаша – последней. Средние повозки катились сами по себе – лошади бежали за сеном предыдущей. Так и ехали, не видя друг друга, и лишь изредка перекликаясь.
Случалось, волки подбирались близко к повозкам и начинали так выть, что кровь в жилах стыла. И тогда ребятам надо было, переборов страх, кричать, что есть мочи, отпугивая хищных зверей. Тут выручали выученные в школе стихи. Хорошо, голос у Гаши был громкий, и стихов она запомнила много! Вот так и кричала она их всю дорогу, пока до деревни не доедут.
Были случаи, когда лошадь без седока сходила в сугроб и повозка переворачивалась. Виктор на первой повозке продолжал ехать вперед – ему не было видно из-за горы сена, что там сзади происходит. И опять приходилось Гаше кричать, что есть мочи, останавливая удаляющуюся повозку брата. Ребята с большим трудом вытаскивали сани из снега, ставили их на дорогу, собирая и укладывая упавшее сено. Окоченевшими руками поправляли лошадиную упряжь, стараясь при этом ласковыми словами успокоить перепуганное животное. Домой обычно возвращались вечером, затемно.
Приятно было после такого дня оказаться снова в тепле родного дома, в безопасности, почувствовать себя детьми. Конечно, как и у всех детей, у них были свои забавы. После таких поездок любили они забираться на печку и рассказывать нам, младшим, страшные истории, случившиеся с ними в дороге. Тут уже и волки не просто выли, а с яростью накидывались на лошадей и на самих ребят, и в поле страшно кричала нечистая сила…
Постепенно эти истории переходили в сказки, а потом кто-нибудь начинал напевать протяжные русские песни «про удальца-молодца, ухаря-купца и про несчастную любовь». В конце песни сестры тихонько всхлипывали, представляя себя на месте той обманутой и покинутой, о которой пелось… А нам, мальчикам, больше нравилось петь «взрослые», запрещенные песни, частушки или же играть в карты. Особенным картежником среди нас был Виктор. Он-то и научил своих сестер и братьев картежной игре. Ему больше всех и доставалось за это – отец карт не любил и ругал нас за них.
Вообще-то, Виктору от отца «доставалось» не часто. Может быть потому, что в нашей большой крестьянской семье он с ранних лет был основным помощником отца и немало забот по хозяйству легло именно на его плечи. А так как он был намного старше нас, младших братьев, то пользовался большим авторитетом. Говоря о нем, мы называли его уважительно: «Братка» и всегда старались ему подражать.
Виктор был невысокого роста, крепкого сложения, немногословен. Ходил – словно печатал каждый свой шаг. Любую работу выполнял в основном левой рукой. Он один из нас – шестерых братьев и двух сестер – был левшой. Любая работа в крестьянском дворе выполнялась им с большим старанием и с большим мастерством. Мы, младшие, часто удивлялись: как это он так ловко держит топор, молоток или еще какой-либо инструмент в левой руке?..
Стоило кому-нибудь из нас провиниться, он тут же говорил: «Ну, за это тебе полагается всыпать хар-рошую порцию ремня!» И мы знали, что его левая рука не дрогнет: врежет, так уж врежет! Долго потом будешь помнить, что она сильнее отцовской правой. Правда, ремень брат применял редко – больше воспитывал словами и личным примером.
Помню, как-то в зимнюю стужу на нашем дворе было уже на исходе сено для скота. Брат завернулся в тулуп, надел собачьи рукавицы и в снежную метель поехал за несколько километров – туда, где в поле стоял большой стог нашего сена.
Когда брат возвратился, я впервые увидел его таким сердитым. Виктор рассказал родителям, с каким трудом он добрался до места, где был наш стог, а его уже кто-то увез… Собрав остатки сена, он погнал бедных лошадей в обратный путь.
Брат еще долго не мог успокоиться и, поднимая свой левый кулак, все грозил кому-то невидимому, повторяя: «Ну, лентяи!.. Ну, лодыри!.. Ну, дармоеды! Все равно вас найду и всыплю по заслугам… так всыплю!» Но всыпать никому не пришлось, потому что снег давно скрыл следы: недаром же воровали в метель. А не пойман – не вор понятное дело!.. Даже, если ты знаешь, кто кормит свой скот твоим сеном, – как ты это докажешь?
Когда Виктору было лет шестнадцать, с ним произошел случай, запомнившийся нам всем надолго. Особенно, нашему отцу!
Старший брат с малых лет управлял лошадьми и был известным в селе ухарем – умело пользуясь кнутом и вожжами, любил прокатиться с ветерком. К сожалению, эта его страсть слишком дорого обошлась нашей семье.
Однажды летом он возвращался с поля домой на легкой подрессорной тележке, запряженной двумя сильными, хорошо откормленными лошадьми. Чтобы показать свою удаль перед любимой девушкой, он перед ее домом так поддал кнутом и без того бешеным лошадям, что те рванули, как вихрь, и помчались, уже не слушаясь седока. Как говорят: понесли.
Растерявшийся брат не знал, как остановить храпящих, брызжущих пеной, обезумевших лошадей. В этой дикой скачке он с силой тянул вожжи, и вот правая вожжа оборвалась, лошадей так завернуло влево, что они с разбега ударились лбами в крепкий бревенчатый сарай чужого дома. Лошади тут же пали, а когда Виктор подбежал к ним, были уже мертвы.
Зная крутой характер нашего отца, брат бросился бежать и, спрятавшись где-то в чужом доме, неделю дома не появлялся. Соседи приходили к нам и просили отца простить сына: такое несчастье, мол, может случиться с каждым.
Когда Виктор вернулся, то сразу же увидел во дворе распятые на торце амбара лошадиные шкуры. Он подошел к ним и виновато погладил. Вот тогда мы, младшие, в первый раз увидели, как наш старший брат плачет…
Без сомнения, на долю старших детей выпало нелегкое время – переезд на Алтай, обустройство на новом месте, голод войны, революция. Мне же, родившемуся в 1919 году, относительно повезло: семья уже почти десять лет жила на новом месте. Но все равно, и я успел хлебнуть немало лиха…
С малых лет нас брали на работы в поле. Иногда отец отдавал нас в помощь тем соседям, у кого не было маленьких детей, чтобы погонять в поле лошадей. А соседи, в свою очередь, помогали нашей семье в других работах. Такая «кооперация» всегда существовала на селе. Это была обычная крестьянская взаимовыручка. Удел мальчишек был – верховая езда на лошадях, а девочек – нянчить малышей, когда их родители в поле. Редко какая семья обходилась без такой взаимовыручки.
Так меня семи-девятилетним мальчиком брали наши соседи на время полевых работ в качестве погоныша. Вставать по утрам приходилось с восходом солнца, ложиться спать – с наступлением темноты. А в разгар лета на Алтае она наступает около полуночи.
Летняя ночь мне тогда казалась мгновением. Я не мог представить, что когда-либо удастся вволю выспаться. С утра до ночи, сидя верхом на лошади, боронишь или пашешь – и все смотришь и удивляешься: почему так медленно солнце идет к закату?
Хозяева мои сами работали «до шести лап», и меня заставляли не отставать… Объясню, что это такое. Ранним утром, когда солнце только встает, от любого из нас тянется по земле длинная тень, а потом солнце поднимается все выше и выше, а тень делается все короче. Часов тогда не было. Время обеда и послеобеденного отдыха наступало, когда тень твоя укорачивалась до шести твоих же ступней. С какой надеждой я начинал поближе к полудню одну за другой их отсчитывать! С какой радостью объявлял, наконец, старшим: «Шесть!»
Отдыхать полагалось тоже «до шести лап». Как только солнце пересечет зенит и начнет огибать тебя уже с другой стороны, отмеривай опять свои шесть ступней – и с Богом! Жара к тому времени в разгаре, и слепни кажутся еще злее…
Сколько наивных и пылких дум проносилось в несмышленой детской голове за это томительное время. Сколько песен споешь от восхода до заката! А поешь для того, чтобы не уснуть и не свалиться с лошади. Но и песни иногда не помогали: был я дважды под бороной. К счастью, лошади, радуясь возможности отдохнуть, тут же останавливались и начинали заниматься одним-единственным делом – отмахиваться от назойливых слепней и всякой мошкары.
Иногда пахарь, идя за плугом и видя, что погоныш начал «клевать», хорошенько подбадривал его кнутом. Были и обиды, были и слезы… Зато сколько было радости по окончании сезона работ в поле вернуться домой! Сверстники смотрели с затаенной завистью: им казалось, что ты уже на голову выше их и умудрен каким-то особым житейским опытом. Да и ты держишь себя с достоинством: «Я-де, мол, знаю, с каким трудом достается хлеб!»
Может потому, что так много песен было спето мной в те долгие дни утомительных полевых работ, но с той поры и по сей день я, по существу, все песни пою на один мотив. Видимо, и природа обделила меня – музыкальный слух совершенно отсутствует. Как говорят медведь на ухо наступил!
Однажды, будучи уже отцом семейства, я услышал удивительное пение итальянского мальчика Робертино Лоретти и сказал своим дочерям: «Слышите, как хорошо у людей поют дети!» На что они, с полным, как понимаю, основанием ответили: «В кого бы нам родиться, чтобы так петь?»
Тонкий намек, как говорится… Но все равно: оставаясь наедине, я частенько напеваю что-нибудь из старинных русских песен. И очень люблю их, особенно в исполнении хорошего народного хора или певцов, поющих «в живую», без фонограммы… И для меня всегда сущий праздник, когда слышу записи песен удивительной, истинно народной русской певицы Лидии Руслановой.
Вспоминая детство, не могу не рассказать, как ездили мы в ночное. Обычно парни постарше заранее сговаривались пасти ночью лошадей в определенных местах в степи. Они собирались группами по пять-шесть человек и намечали, в какой день и когда поедут. Иногда брали и меня, совсем еще ребенка, в свою «взрослую» компанию. Сверстники завидовали мне – каждый хотел бы побывать ночью в степи, послушать захватывающие дух рассказы, от которых порой не уснешь до утра. Обычно дело обстояло так. Пригнав табун в условленное место, путали и треножили лошадей, оставляя их посреди раздолья сочных трав – под крупными и яркими звездами. Сами же разводили костер и, собравшись вокруг него, с жаром обсуждали сельские новости, пели песни и рассказывали «ужасные» истории. А когда наступала пора появиться на сельских посиделках, старшие ребята садились по двое на лошадь и мчались в Курью. Мне же перед отъездом давали добрый совет: поскорее уснуть…
Легко сказать: «Уснуть»!.. В такой ситуации вряд ли кто-то захочет спать: как только стихал топот копыт, тебя охватывал жуткий страх… То слышишь, как воют волки; то какие-то тени неслышно движутся в твою сторону; то вдруг почувствуешь, что под твою самодельную «постель» ползет огромная змея; то почудится – леший дико вскрикнул! И так, в судорогах страха, прислушиваешься, присматриваешься, оглядываешься и успокаиваешь себя только одним: мыслью о скором возвращении ребят…
И вот, наконец, далеко за полночь слышишь, как они, весело перекликаясь в степи, скачут к почти угасшему костру, и тебе уже совсем не страшно и даже не хочется спать. На душе у тебя не то, что радостное облегчение – самое настоящее счастье. И сам себе уже кажешься настоящим героем: один на один с ночными страхами выстоял! Но никогда и никому не расскажешь правды о своих ночных видениях… Друзья же еще долго шепчутся, и лишь к утру их одолевает крепкий сон. Ночные похождения, конечно же, скрывались от родителей, хотя те наверняка обо всем догадывались.
В детские годы каждый ребенок подражает старшим, не особенно понимая – хорошо это или плохо? В долгие зимние вечера, когда за окнами завывала буря, к отцу приходили односельчане – такие же, как и он, отцы семейств. Их неспешные беседы – воспоминания о прошлом, мечты о будущем – длились порой чуть не до рассвета. Мы же, ребята, лежа на полатях, иногда вслушивались в их тихие разговоры. Если и не все могли расслышать или понять, то не беда! Мы, как завороженные, просто смотрели на них, могучих сибирских мужиков, и жадно ловили, впитывали в себя что-то необычное в их привычках, движениях, жестах, в их манере общения друг с другом.
Часто захаживал наш сосед – большой, широкий мужик с неспешными движениями. С затаенной завистью я внимательно наблюдал за ним. Особенно нравилась мне его манера закуривать папиросу. Делал он это необычным образом, совершенно не так, как остальные сельские мужики. Достав кисет, он зажимал его между пальцами левой руки. В этой же руке держал и клочок газетной бумаги, а правой неспешно и с чувством доставал из кисета щепотку табаку. Свернув папиросу, брал ее краем рта. Медленно доставал из кармана спичку. А затем закидывал левую ногу на колено правой и резким движением руки зажигал спичку о подошву сапога!..
Этот заключительный момент и приводил меня в полный восторг. Детское воображение рисовало картину, что это уже не он, а я так ловко умею прикуривать, вызывая общее уважение окружающих! Ох, как я мечтал поскорее стать взрослым! Курить!.. И делать это непременно, как сосед! Но так долго ждать я не мог…
И однажды, в кругу сверстников, я попытался все это повторить. Держа в зубах наполненную какими-то листьями папиросу, я, с такой же важностью, как сосед, достал спичку и начал… безуспешно чиркать по подошве своего сапожка. И надо же случиться такому конфузу – в этот самый интересный и ответственный момент моего «курения» я увидел своего старшего брата! Он крепко взял меня за ухо и повел к отцу для объяснений. Понимая всю плачевность своего положения, я не мог понять одного – откуда взялся в нашем «тайном» месте мой брат? Как он смог незаметно для нас подойти и подсмотреть?
Последовавшее отцовское «разъяснение» достигло своей воспитательной цели: став взрослым, я никогда не курил. Даже в войну в кругу своего танкового экипажа, когда в перерывах между боями курили все, у меня не возникало желания закурить. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло!
Сейчас я с благодарностью вспоминаю своего отца Тимофея Александровича, давшего нам первые жизненные наставления. Мы всегда его звали по-деревенски ласково – тятя. И хотя он не был с нами, детьми, таким же ласковым, как мама, но его строгость и требовательность сформировали в нас не самые плохие качества. Главные из которых – любовь к любому делу, за которое взялся, настойчивость и упорство. Каждый из нас в той или иной мере обладал этими качествами, применяя их впоследствии в самых различных сферах деятельности.
Семья, безусловно, была для нас той средой, в которой мы росли. Многодетная семья, в которой живут по три-четыре поколения, всегда отличается воспитанием детей. Тут и стар, и мал знают свои обязанности, и контроль за их выполнением всегда неусыпный – сколько старших есть над тобой, всех и слушайся!..
Это было не тиранство, а строгие правила жизни крестьянской семьи, ее устои. Да и православная религия всех тогда держала «в узде». Наши родители и бабушка с дедушкой были истинными христианами: в семье было принято молиться дома и ходить в храм. Мы не смели сесть за стол и начать есть без благодарственной молитвы.
В нашем доме газеты, журналы и книги были всегда. Отец был грамотным человеком по меркам того времени – он закончил два-три класса школы и любил читать, если выдавалось свободное время. Мама, хотя и была безграмотной, очень любила слушать, когда кто-нибудь читал вслух.
Хорошо помню, как мы коротали долгие вечера в осеннюю непогоду, либо в метель, зимой. Когда ветер бьется в оконное стекло, стучит мелким дождичком-мжичкой, либо мокрым снежком… Или когда начинается затяжная сибирская вьюга – «хурта», и вольный степной буран так ударяет в стены, что, кажется, он оторвет дверь и ворвется в избу. Жди, что завтрашним утром не сразу откроешь эту дверь – так она окажется завалена выпавшим за ночь снегом…
Поскрипывает сухое дерево на чердаке: неужели там и правда кто-то ходит? Но нам совсем не страшно! Ярко горит керосиновая лампа, и еще ярче пылает русская печь. Жаркие отблески вырываются из щелей чугунной дверцы и мечутся по стенам. Ужин давно позади, и теперь все заняты своими обычными вечерними делами.
Дед и бабушка легли отдыхать, утомившись за день. Отец за столом как всегда что-то чинит, ремонтирует, негромко постукивая то кухонным ножом, то стамеской, то молоточком. К деревянному стояку рядом с мамой прилажен большой пук овечьей шерсти – кудель. Она перебирает ее пальцами, теребит чесалкой – готовит под пряжу, а сестры рядом сучат ее, учатся прясть на веретене. Потом Гаша переходит поближе к лампе и принимается что-нибудь вязать. Брат Виктор сидит под лампой с книжкой в руках и нараспев, с «выражением» – только такую декламацию и одобряет отец – читает нам то о «несжатой полоске», то о том, как семеро мужиков «сошлися и заспорили: кому живется весело, вольготно на Руси?»
Пожалуй, для Виктора это было больше обязанностью, нежели его горячим желанием: иногда он словно о чем-то задумывался, спотыкался на слове, и становилось вдруг тихо-тихо… Тут уже Гаша подхватывала стих, продолжала его наизусть, а отец приподнимал ладонь, предупреждая Виктора: мол, теперь помолчи. Не мешай теперь!
Сестричка Гаша, терпеливая работяжка и умница!.. Последний раз мы виделись с ней в 1993 году, когда ей уже исполнилось восемьдесят восемь. Совсем «обезножела», как она говорила, – ходила с трудом. Но как она оживала, когда начинала вдруг припоминать те самые стихи Некрасова, которые подхватывала тогда, три четверти века назад. Тогда, когда наша большая семья была еще вместе… Опершись на свою клюку, она вставала и читала с такою радостью в голосе и так долго, что мои дочь и внук невольно устраивались поудобней: баба Гаша наверняка еще долго будет «рассказывать»…
А тогда, метельными вечерами, когда Гаша останавливалась, отец потихоньку запевал…Чуть выжидала и присоединялась к нему мама, начиная рукой приглашать остальных, и все один за одним выступали – кроме меня… Как они пели, какие песни! И «Славное море, священный Байкал», и «Ревела буря, гром гремел», и «Бежал бродяга с Сахалина»… И песню, которая почему-то тревожила меня больше остальных: «Скакал казак через долину, через кавказские края». У меня от нее начинало щемить душу – как у взрослого. От того, наверно, что упоминались те самые «кавказские края», откуда родом была наша семья.
А это всегда меня волновало. С детства я слышал разговоры о том, какие же это теплые и благодатные места! Там растут удивительные сады, в которых созревают очень вкусные фрукты – «хрукта»: яблоки и «баргамоты», абрикосы и «гранклет». Это все звучало как сказка! И когда я был маленьким, часто спрашивал родителей, зачем же они сюда приехали? Ведь на Алтае нет таких вкусных плодов! Но они, добродушно посмеиваясь, отвечали примерно одно и то же: мол, «хрукта» для человека не главное, это так – одно баловство. Основное же для каждого человека на земле – это хлебушек. «Хлебушка» – как они говорили. Потому и пришли они сюда – на земли хлебные. Здесь ведь «на деревьях растут булки»…
После таких объяснений, не понимая, что про «булки» родители просто шутят, я начинал приглядываться к деревьям – все искал, где же растут эти самые булки?..
Загадочные кавказские фрукты: яблоки, груши, абрикосы и сливы я попробовал, приехав на Кавказ через много лет. И был очень удивлен, узнав, что «гранклет» – это необычайно крупная слива сорта ренклод, а «баргамоты» – это бергамот, большая сладкая груша… Конечно, что такое – яблоки и абрикосы, я узнал еще в школьном возрасте, учась в Курье.
Годы учения в нашей сельской школе на всю жизнь оставили след в моей памяти. Я тогда открыл для себя много интересного, многому научился.
В школу я пошел, умея уже и читать, и писать. Это, видимо, еще одно преимущество многодетных семей: либо тебя научат старшие, либо исхитришься и сам выучишься, стараясь не отставать от них.
Первую мою учительницу звали Зинаида Ивановна. Каждый из нас видел в ней свою вторую маму, каждый мечтал заслужить ее похвалу. Она же с большим терпением и добротой учила нас, таких разных по своему физическому и умственному развитию, деревенских ребятишек. Любовь к крестьянскому труду, большая самостоятельность, помощь старшим были неотъемлемой частью нашего школьного воспитания.
Зинаида Ивановна часто навещала нас дома, стараясь узнать, в каких условиях живут ее ученики, как они занимаются, чем увлекаются, с кем дружат. Разговаривая с нашими родителями, она ненавязчиво и осторожно делала им замечания, давала советы – она любила своих учеников и хотела их видеть умными и добрыми. Трудно было сказать, кто больше любил Зинаиду Ивановну: мы, ее ученики, или наши родители. Ее авторитет был безусловным. Нередко родители говорили своему провинившемуся ребенку: «Смотри, вот расскажу об этом Зинаиде Ивановне!..» И уже одного этого было достаточно, чтобы тот все понял.
Интересные походы с множеством развлекательных игр устраивала наша учительница с целью привить нам доброе и уважительное отношение друг к другу. В тех походах девочкам, как правило, она давала более легкие задания, чем нам, мальчишкам. Но от всех требовала их исполнения с особой аккуратностью.
В зимнее время, на переменах между уроками, Зинаида Ивановна водила вместе с нами хороводы. Дети брались за руки, образовывая два круга: один большой – наружный, а внутри него – меньший круг. Большой круг ходил по часовой стрелке, маленький – против. Большой круг при этом пел: «А мы просо сеяли, сеяли…», а малый отвечал: «А мы просо вытопчем, вытопчем…». Играли мы на переменах и в другие детские игры. И всегда наша учительница была с нами.
Была у меня и первая детская любовь: красивая девочка из нашего класса, тоже Зина. Хорошо воспитанная, внимательная, умная и всегда с образцовыми тетрадками. Чего скрывать: в то время мне очень хотелось быть похожим на нее! И я старался…
В нашей школе был тогда «брошен клич»: «Каждый ученик должен взяться за научное выращивание животных». И когда я узнал, что Зина выращивает – по науке! – теленка, тут же заявил своим родителям, что, как только появится теленок у нашей коровы, я сам начну его выкармливать.
Мне повезло, и вскоре я уже стоял, счастливый, перед Зинаидой Ивановной, которая записывала мне в тетрадь рацион кормления новорожденного теленка на ближайшие две недели. Как будущему воспитателю, родители разрешили мне самому назвать своего питомца. Я назвал его Красавцем. Он действительно оправдывал эту кличку: весь черный, с красивой белой отметиной на лбу и с умными ласковыми глазами. Так я включился в соревнование «У кого лучше питомец?».
Зинаида Ивановна часто проверяла, не нарушаем ли мы нормы кормления и ее «рекомендации по научному выращиванию молодняка». И вот однажды она появилась в нашем доме со словами: «Я не одна, с помощницей». Как же я был удивлен и обрадован, увидев рядом с Зинаидой Ивановной свою подружку. Зина стояла раскрасневшаяся от зимнего мороза, а быть может, от смущения и старалась напустить на себя важный вид. Она только один раз, словно невзначай, взглянула на меня. При этом меня охватило такое волнение, что я уже не мог собраться с мыслями и спокойно рассказывать о своих успехах.
Мама все поняла и выручила меня: сама познакомила наших гостей с моим питомцем. Зинаида Ивановна задавала вопросы, мама отвечала. Мы же с Зиной, очень смущенные, все это время молчали. Девочка с подчеркнутым интересом разглядывала Красавца, ни разу не посмотрев в мою сторону.
Перед уходом Зинаида Ивановна похвалила меня, и тихо поглаживая Красавца по спине, пожелала дальнейших успехов. А Зина, обращаясь к маме, тихо произнесла: «Хорошего вы вырастили… теленочка!» Я же, не расслышав последнего слова, решил, что Зина сказала: «сыночка». И это прозвучало для меня, как объяснение в любви – я покраснел и потерял дар речи окончательно…
Поняв мое смущение, мама обняла Зину и, глядя на меня, сказала: «Это все он, наш Миша!» Вскоре, распрощавшись, наши гостьи ушли. А я потихоньку, чтобы никто не заметил, подошел к окну и долго смотрел им вслед…
Внезапно оборвалась наша детская дружба… Однажды в конце лета, когда я возвратился с полевых работ, моя мама как бы невзначай сказала, что Зина вместе с родителями уехала жить в другое село… Я знал, что мама сказала правду, но не хотел верить этому!
Найдя предлог, чтобы уйти из дома, я побежал туда, где жила Зина. Подойдя к ее дому, я замедлил шаг и с надеждой посмотрел на окна: вдруг передумали, не уехали? Вдруг я снова увижу свою подругу, ее улыбающееся лицо, ее русые волосы, заплетенные в тугие косы и украшенные красивыми голубыми бантами? Но ничего этого не случилось. В приоткрытые ворота был виден опустевший двор да следы поспешных сборов – валяющиеся ведра, какие-то мешки, рассыпанное зерно…
Сердце мое зашлось в печали – я ведь даже не простился с девочкой, которая мне очень нравилась и которая была мне другом. Увидимся ли мы с ней когда-нибудь?
Позже в их дом заселились другие люди, неизвестно откуда приехавшие в село. Узнав об этом, я понял, что Зина уехала навсегда. С той поры я начал обходить ее дом стороной – мне почему-то казалось, что в нем царит мрак и нет больше жизни.
Вскоре после этого, очень печального для меня события, по селу пошел слух, что семью Зины раскулачили и выслали в дикие таежные места Сибири…