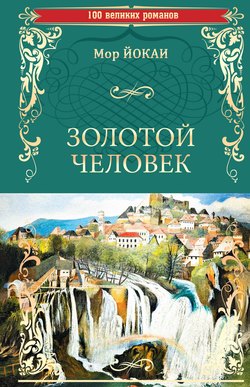Читать книгу Золотой человек - Мор Йокаи - Страница 10
«Святая Варвара»
История обитателей острова
ОглавлениеДвенадцать лет назад мы жили в Панчеве, муж мой служил там городским чиновником. Фамилия его была Белловари. Молодой, красивый, славный он был человек, и мы очень друг друга любили. Мне в ту пору было двадцать два года, ему – тридцать. Родилась у нас дочка, нарекли ее Ноэми. Богатыми мы не были, но достаток в доме водился. У мужа была приличная должность, хороший дом, дивный фруктовый сад, пахотные земли; я росла сиротой и, когда он на мне женился, принесла в дом готовое состояние, так что жили мы без забот.
Муж мой водил тесную дружбу с Максимом Кристяном, отцом того человека, который побывал здесь сегодня. Тодору тогда сравнялось тринадцать лет, такой был милый, красивый, живой парнишка, а уж до чего умный да сообразительный! Ношу я, бывало, дочку свою на руках, а мужчины знай приговаривают: надо нам будет поженить наших детей. И я, помнится, не нарадуюсь, когда мальчонка берет мое невинное дитя за крохотную ручонку и спрашивает: «Ну как, пойдешь за меня?» – а Ноэми смеется-заливается.
Кристян считался торговцем. Но не из тех истинных купцов, кто в своем ремесле по-настоящему разбирается да по свету ездит, а так, провинциальный торгаш, зато тягаться с купцами покрупнее и рисковать вслепую – тут он был мастер; если повезет, так в выигрыше, а не повезет – так в накладе останется.
Кристяну все время везло, вот он и вообразил, что так будет всегда. Объедет по весне всю округу, посмотрит, как всходят посевы, и заключает договор с оптовыми торговцами на продажу зерна после жатвы.
Был у него постоянный заказчик – Атанас Бразович, купец из Комарома, он каждую весну вперед выплачивал Кристяну крупные суммы под то зерно, что должно быть собрано по осени. И Кристян обязывался по установленной цене загрузить зерно на купеческие суда. Такие сделки приносили Кристяну хороший доход. Правда, я с той поры много над этим размышляла и пришла к выводу, что никакая это не коммерция, а чистой воды азартная игра: торгуют тем, чего пока еще нет и в помине. Бразович обычно ссужал Кристяну крупные суммы, а поскольку у того, кроме дома, никакой недвижимой собственности не было, требовал поручительства. Муж мой охотно взялся выступить поручителем: и собственностью он владел, и к Кристяну дружбу питал. Кристян себя не обременял, жил припеваючи; муж мой, горемыка, целыми днями у конторки корпел, а дружок его знай себе целыми днями на террасе кафе посиживал, трубку потягивал да препирался с такими же торгашами, себе под пару. Но однажды обрушился на людей бич Господень: настал страшный 1816 год. Весной по всей стране виды на урожай были прекрасные, и можно было рассчитывать на дешевое зерно. В Банате счастлив был тот купец, которому удалось заключить сделку на пшеницу по четыре форинта за меру. А лето выдалось дождливое, шестнадцать недель каждый божий день лило не переставая. Все зерно сгнило на корню; голод грозил краю, в насмешку прозванному Ханааном, и по осени цена пшеницы стала двадцать форинтов за меру. Да и за эти деньги ее не сыскать было на продажу, весь урожай земледельцы попридержали на посевное зерно.
– Как же, как же, помню, – вставил словцо Тимар, – я в то время начинал свое поприще.
– И в тот год Максим Кристян не сумел выполнить договор, заключенный с Атанасом Бразовичем. Сумма, которую ему предстояло платить, была такой чудовищной, что и не выговорить. Знаете, что он тогда удумал? Сгреб все свои деньги, какие прежде раздал в долг, набрал полную мошну в долг у простаков доверчивых да однажды ночью втихомолку и бежал из Панчева. Денежки с собой прихватил все без остатка, а сына единственного бросил.
Ничто не мешало ему так поступить: все его состояние заключалось в деньгах, а то, что он здесь оставил, было ему не дорого.
Но зачем тогда существуют деньги, если они могут причинить столько вреда человеку, которому ничто на свете, кроме них, не дорого?
Все свои долги и обязательства Кристян переложил на плечи тех, кто одарил его своей дружбой, кто поручился за него. Среди них был и мой муж.
И тут Атанас Бразович потребовал с поручителей выполнить договор.
Все справедливо: ведь он предоставил кредит сбежавшему должнику, и мы вызвались возместить ему эти деньги. Распростились бы с половиной имущества, этого хватило бы, чтобы выплатить долг. Но Бразович не знал жалости: ему подавай полный расчет по всем условиям договора. Неважно, сколько денег он дал в свое время, главное, сколько должен был выручить. А он требовал пятикратной прибыли, и документ давал ему на то право. Мы просили, молили его удовольствоваться меньшей суммой, ведь речь шла всего лишь о том, чтобы он не так наживался на попавших в западню людях. Но Бразович был неумолим. Все свои претензии он хотел удовлетворить за счет безвинных поручителей.
Но для чего тогда существует религия, вера христиан и иудеев, если позволительно выставлять такие требования?
Дело подали в суд: судья вынес приговор, у нас отобрали дом, землю, лишили последнего куска, опечатали все имущество и пустили с молотка.
Но скажите мне, для чего тогда законы, для чего существует людское сообщество, если дозволено довести человека до нищенской сумы из-за долга, который сам он никогда не просил? Если дозволено разорить безвинного – и все из-за третьего лица, бессовестного человека, который посмеялся над простаками, да и был таков?
Мы предприняли все возможное, чтобы избавиться от крайней беды; муж самолично отправился в Буду и в Вену просить аудиенции. Подлый мошенник, сбежавший с чужими деньгами, жил в Турции, нам удалось это выведать. Мы обратились с прошением, чтобы его арестовали и доставили обратно: пускай сам удовлетворяет требования своего кредитора. И повсюду получили один и тот же ответ: не в нашей, мол, власти.
Но тогда какой прок от всех этих министерств, императоров, великодержавных властителей, если они не в состоянии защитить своих неимущих верноподданных?
Не перенеся этого ужасного удара, обрекшего нас на нищенскую долю, муж мой однажды ночью застрелился.
Он не желал видеть нищету своей семьи, слезы супруги, голодные муки ребенка и предпочел сбежать под землю.
Сбежать под землю – от нас!
О, зачем тогда существуют мужчины, если в случае беды не находят другого выхода, кроме как оставить женщину с ребенком на произвол судьбы и покончить с собою?
Но на этом ужасы еще не кончились. Нищенкой, бездомной бродяжкой меня уже сделали, теперь вознамерились сделать и безбожницей. Вдова самоубийцы понапрасну молила священника похоронить ее несчастного мужа как положено. Его преподобие – человек строгих нравов и великой святости, верность религии соблюдает неукоснительно; он отказал моему мужу в погребении по христианскому обряду, и мне пришлось смотреть, как человека, которого я любила до беспамятства, городской живодер везет на своей телеге, зарывает в яму и землю сверху ногами утаптывает, чтобы, не дай бог, холмика могильного не осталось.
Но зачем тогда священники, если они не умеют врачевать страждущие души?
Зачем тогда весь этот свет? Оставалось последнее: превратить меня в убийцу и самоубийцу. Чего проще: убить дитя и себя одновременно. Затянула я шаль на груди потуже, чтобы ребенок не выскользнул, и вышла на берег Дуная.
Я была одна, вокруг – ни единой живой души.
Раз-другой прошлась я вдоль берега, высматривая, где поглубже.
Тут кто-то сзади ухватил меня за платье и потащил назад.
Я оглянулась: кто бы это мог быть?
То была собака – мой последний добрый друг из всех живых существ.
Это случилось на Острове, на том острове у нас был дивный фруктовый сад и летний домик. Все комнаты там тоже были опечатаны, и мне дозволялось ходить только по кухне да по саду.
Села я тогда на берегу Дуная и призадумалась. Кто я есть? Человек, женщина. Неужто я хуже твари бессловесной? Видел ли кто когда, чтобы собака щенят своих топила и себя убивала? Не стану я убивать себя, не стану губить свое дитя! Всем смертям назло буду жить, буду дочку свою растить! Как жить? А как волки живут, как цыганки живут, у которых нет ни дома, ни хлеба. Буду просить милостыни у земли, у реки, у деревьев; только у людей никогда попрошайничать не стану!
Бедный мой муж много рассказывал мне об островке, который лет пятьдесят назад был образован Дунаем в зарослях камыша у Островы. Муж любил охотиться там в осеннюю пору и часто упоминал изрытую пещерами скалу, где он скрывался от грозы. Остров этот ничейный, говорил он, ведь его создал Дунай – себе самому и никому больше. Ни одно правительство не подозревает о его существовании, ни одна страна не обладает правом причислить его к своей территории. Там никто не пашет, не сеет. Земля, деревья, трава – ничьи. Но если они не принадлежат никому, то отчего бы им не принадлежать мне? Попрошу их у Бога, попрошу у Дуная – отчего бы им не уступить мне? А я на той земле стану растить хлеб. Какой хлеб и как выращивать? Пока не знаю. Нужда научит.
У меня оставалась лодка. Судебный исполнитель не заметил ее, иначе бы тоже отобрал. Мы сели в лодку все трое: Ноэми, я и Альмира, и я погребла к этому ничейному острову. Ни разу в жизни не бралась я за весла, но тут нужда научила.
Едва я ступила на эту землю, меня охватило удивительное чувство: я сразу как бы забыла все, что случилось со мной в том, другом мире. Манящая, умиротворяющая тишина встретила меня тут. Обойдя рощу, лесок, поле, я уже знала, чем стану здесь заниматься. В роще жужжали пчелы, в лесу цвел земляной орех, на поверхности воды колыхались цветы чилима (водяного ореха), вдоль бережка грелись на солнышке черепахи, стволы деревьев были облеплены улитками, а в болотистых зарослях поспевал манник. Боже мой, Господи, вот он – стол, обильный твоими щедротами! Да еще в роще было полным-полно дичков плодовых деревьев. Желтые дрозды занесли сюда семена с соседнего острова, и на дикой яблоне желтели плоды, а малиновый куст все еще хранил свои запоздалые плоды. Да, теперь я точно знала, что я буду делать на этом острове. Я превращу его в райский уголок и добьюсь этого сама, своими собственными руками, в одиночку. Займусь таким трудом, какой под силу одному человеку, хотя бы и женщине. А потом заживу, как жил в раю первый человек.
Я разыскала скалу и ее пещеры, созданные матерью-природой. В самой большой пещере была приготовлена постель – охапка сена; стало быть, это место отдохновения моего несчастного мужа и принадлежит мне по наследству. По праву вдовства. Там я покормила младенца, а затем убаюкала и положила дочку на сено, укрыв шалью. Альмире же наказала: «Оставайся здесь и стереги Ноэми, пока я не вернусь». И я поплыла опять на большой остров. Еще раз наведалась в наш бывший сад. Веранду домика закрывал большой парусиновый навес; я сняла его. Парусина нам пригодится – шатер натянуть или просто укрыться, а то и на зимнюю одежду пойдет. Я сложила все, что под руку подвернулось, кухонные да садовые инструменты, связала большущий узел, чтобы только сил хватило на спине дотащить. Богачкой, в карете, запряженной четверкой лошадей, прибыла я в дом своего мужа, а ухожу с узлом на спине; и ведь не вела себя дурно, не транжирила попусту. Как знать, может, и этот узел за спиной – краденый; правда, его содержимое – моя собственность, но уношу я ее сейчас все же по-воровски. Понятия правды и несправедливости, дозволенности и запрета – все смешалось у меня в голове. С узлом за спиной я бежала прочь из собственного дома. Идя вдоль сада, я сорвала по нескольку веточек с каждого из дивных плодовых деревьев, отломила черенки смоковниц и ягодных кустов, подобрала в передник рассыпанные по земле семена, а затем… прижалась губами к ветвям плакучей ивы, под которой столько раз забывалась счастливым сном. Всему конец. Больше я никогда не возвращалась на то место. Лодка в последний раз перевезла меня через Дунай. На обратном пути меня занимали две тревожные мысли. Первая – о том, что на острове водятся и нежеланные обитатели – змеи. Наверняка они живут и в пещерах, а я ужасно их боюсь, да и за Ноэми страшно. Вторая мысль была о собаке. Сама-то я могу хоть годы продержаться, питаясь диким медом, водяным орехом и манником, Ноэми выкормит материнская грудь, а вот что делать с Альмирой? Такое крупное животное ведь не прокормишь тем, что сама станешь есть. А без нее мне никак нельзя, я пропаду от страха и одиночества. Когда я с узлом добралась до пещеры, то увидела, как перед входом извивается хвост крупной змеи, а чуть поодаль лежит и откушенная голова. Недостающую часть между головой и хвостом съела Альмира. Умная собака лежала возле ребенка, виляя хвостом и облизываясь, словно хотела сказать: я уже отобедала. С той поры она стала все время охотиться на змей, добывая себе каждодневное пропитание. Зимой она выкапывала их из нор. Мой друг – так я ее обычно называю – сама додумалась, как ей просуществовать тут, на острове, и избавила меня от тягостных дум.
Ах, сударь, не могу вам передать, что я испытала в ту первую ночь! Ни души вокруг, со мною были только Бог, дитя и собака. Не решусь назвать свое чувство болью, скорее это было наслаждение. Мы все втроем укрылись парусиной и проснулись с первым пеньем птиц.
И начался труд – труд первобытного человека. Нужда всему научит. До рассвета надобно успеть собрать манник, росную крупу, потому-то ее так и называют. Жены бедняков ходят в болотные заросли, где произрастает это растение со сладкими семенами; задирают подол юбки, придерживая его широко расставленными руками, и начинают кружиться средь кустарника. Спелые зерна сыплются в подставленный подол. Уж это ли не манна небесная, ниспосланный Богом даровой хлеб, которым питаются «ничейные слуги»!
Сударь! Два года продержалась я на этом хлебе и каждый день, становясь на колени, возносила хвалу тому, кто заботится о пташках полевых!
Дикие плоды, мед лесных пчел, земляные орехи, черепашье мясо, яйца диких уток, припасенные на зиму водяные орехи, улитки и сушеные грибы служили мне повседневным пропитанием. Благословен Господь, подающий своим беднякам столь обильную пищу!
И все это время я днем и ночью трудилась, дабы выполнить данный мною обет. К дичкам я привила ветки плодовых деревьев из нашего сада, вскопала землю и посадила ягодные кусты, виноград и разные полезные растения. С южной стороны скалы я посеяла хлопчатник и ваточник, а из собранного урожая изготовила грубую ткань на ивовом станке, вот была нам и одежда. Из рогоза и осоки я сплела ульи, собрала в них рои диких пчел, и в первый же год у меня были мед и воск для обмена. Мельники и торговцы подпольным товаром иногда заезжали на остров, помогали мне при наиболее тяжелых работах. И никто не чинил мне обид. Люди знали, что денег у меня нет, и платили мне своим трудом да необходимыми инструментами – ведь каждому было известно, что денег я не беру! Ну а когда мои фруктовые деревья начали плодоносить, вот тут-то уж я и вовсе разбогатела. На плодородной земле этого острова любое дерево чувствует себя привольнее вдвойне. У меня есть груши, которые плодоносят два раза в год, и каждое молодое деревце после Иванова дня дает новые побеги. Деревья у меня приносят урожай обязательно каждый год. Я все время старалась изучить их секреты и поняла, что для умелого садовника не должно быть ни слишком обильных, ни неурожайных годов. Ведь если с животным говорить, как с человеком, оно вас понимает, вот и деревья, по-моему, тоже прислушиваются – присматриваются к тем, кто с любовью за ними ухаживает, они угадывают ваши сокровенные желания и гордятся, если им удается доставить вам радость. О, деревья – существа разумные, у них есть душа. Я считаю, убийца тот человек, у кого поднимается рука срубить благородное дерево.
Для меня они все – мои друзья. Я люблю их, живу ими и благодаря им.
Ради их ежегодных даров приплывают ко мне на остров крестьяне из окрестных сел, с мельниц и привозят на обмен то, что мне для хозяйства требуется. За деньги я ничего не продаю! Денег страшусь, ведь они, окаянные, чуть не сжили меня со света, а муж мой и вовсе из-за них жизни лишился. Не хочу я их больше никогда видеть.
Но я не такая дурочка, чтобы не быть готовой к тому, что могут наступить и суровые года, когда весь кропотливый труд насмарку пойдет: могут ведь ударить поздние заморозки или урожай побьет градом. Я предусмотрела и худые времена. В подвальной пещере скалы и в проветриваемых ложбинках у меня отложено все, что можно припасти впрок: в бочках достаточно вина, в коробах – воска, тюки набиты шерстью и хлопком, чтобы избавить нас от нужды на случай голодного года, а то и двух. Видите, даже склады припасов у меня есть, а вот денег нету. Я считаю себя богатой, хотя вот уже двенадцать лет ни гроша в руках не держала!
Ведь я живу здесь, на острове, сударь, вот уже двенадцать лет – одна, а вернее, живем втроем. Альмиру я за человека считаю. Ноэми, правда, говорит, что нас четверо. Для нее Нарцисса – свет в окошке. Блаженное дитя!
Многие знают, что мы тут живем, но в этих краях предательство не в чести. Противоестественный замок, которым заперта граница двух стран, воспитал в здешних людях постоянную скрытность. Никто не суется в чужие дела и инстинктивно хранит любую тайну. Отсюда никакие сведения не просачиваются ни в Вену, ни в Буду, ни в Стамбул.
Да и с какой бы стати людям доносить на меня? Я чужого не трогаю, никому вреда не желаю. Выращиваю плоды на клочке земли, а земля эта ничейная. Господь Бог да принадлежащий королю Дунай дали мне все блага, и за то я каждодневно возношу им хвалу. Слава тебе, Господи, слава тебе, мой король!
Теперь уж и не знаю, сохранилась ли во мне какая-либо религиозность. Двенадцать лет я не видела ни священников, ни храма. Ноэми об этой стороне религии тоже ничего не знает. Я научила ее читать-писать, я рассказала ей о Боге, об Иисусе, о Моисее – какими я их себе представляю. Рассказала ей о добром, всепрощающем и вездесущем Боге, о возвышенном в своей приниженности, немеркнущем в страданиях, божественном в своей человеческой сути Иисусе и о Моисее, ведущем свой народ к свободе, в голоде и жажде странствующем по пустыне, лишь бы не променять волю на сытое рабство, о Моисее, проповедующем добро и братскую любовь. Но о Боге жестоком и мстительном, проводящем различие между людьми, о Боге, требующем жертв и поклонения в богато изукрашенных храмах; об Иисусе, утверждающем собственную исключительность, требующем от людей слепой веры, призывающем платить подати богатым и подвергать гонениям ближних своих; о Моисее, вымогающем деньги и призывающем ко всеобщей ненависти, о себялюбивом Моисее, прославляемом в книгах и церковных проповедях, псалмах и колокольном звоне, – моя дочь не знает!
Теперь, сударь, вам известно, кто мы такие и чем занимаемся. И, стало быть, вам ясно, чем угрожает нам Кристян, сын человека, за которого поручился мой муж, из-за которого он покончил с собой, а мы с дочкой были вынуждены покинуть людской мир.
Мальчику было тринадцать лет, когда нашу семью постиг крах, но удар этот и его коснулся, ведь родной отец бросил его на произвол судьбы.
Поистине не приходится удивляться, что из него вышел такой негодяй.
Покинутый, выброшенный родным отцом на свалку общества, обреченный на милостыню чужих людей, обманутый, обокраденный самым близким человеком, какого следовало бы почитать сыновней любовью, с младых ногтей заклейменный как сын мошенника… неудивительно, что он стал тем, кем вынужден был стать.
Впрочем, даже я толком не знаю, кто он такой, хотя и знаю о нем довольно много.
Люди, побывавшие на острове, немало рассказывали о нем.
Вскоре после бегства Максима Кристяна он тоже отправился в Турцию – на поиски отца, так он говорил. Одни утверждали, будто бы Тодор разыскал отца, другие уверяли, что ему так и не удалось напасть на его след. Поговаривали также, будто бы парень обокрал отца, бежал с деньгами и все разом растранжирил. Но наверняка никто ничего не знает. У самого Кристяна спрашивать бесполезно, он сроду правды не скажет, где был да что делал. Зато наплетет с три короба и так ловко свои небылицы порасскажет, что даже тот, кто очевидцем был и видел совсем противоположное, – и тот засомневается, уж не правду ли Кристян рассказывает. Сегодня он здесь, завтра там. Встречали его в Турции и Валахии, в Польше и Венгрии, и не сыскать в этих странах прославленного человека, с которым бы Кристян не был знаком; стоит ему с кем-либо сойтись, он непременно обманет этого человека, и обманутый может не сомневаться, что Кристян объявится снова и снова его обманет. Говорит он на десятке языков, и к какой нации сам себя причислит, за того люди его и принимают. То он выступает купцом, то солдатом или моряком, нынче он турок, завтра грек. Видели его и в роли польского графа, и жениха русской княжны, и немецкого чудо-доктора, способного якобы излечить любую хворь свойми пилюлями. Чем он занимается на самом деле – не догадаться. Одно можно сказать наверняка: он – платный соглядатай. Кому он служит: туркам, австрийцам, русским? И тем, и другим, и третьим, а может, и еще каких хозяев находит. Но кому бы он ни служил, обманывает всех и каждого. На острове он появляется несколько раз в год. Приплывает на лодке с турецкого берега и той же самой лодкой переправляется на венгерскую сторону. Какие у него там дела, я и предположить-то даже не могу. Но мне кажется все же, что мучительству, всякий раз появляясь здесь, он подвергает меня собственного удовольствия ради. Он любитель вкусно поесть и за юбкой приволокнуться. А у меня всегда есть вкусная еда и есть молоденькая, подрастающая девочка, которую он не прочь поддразнить, называя своей невестой. Ноэми ненавидит его, даже не подозревая, насколько обоснована ее ненависть. Но я не думаю, что Тодор Кристян лишь ради этого наведывается на остров. Должно быть, с островом связаны какие-то тайны, о которых я и понятия не имею. Кристян – платный доносчик, к тому же злой человек и развращенный до мозга костей. С него все станется. Он знает, что мы с дочкой здесь на птичьих правах, никаких человеческих прав на этот остров мы не имеем, и, владея нашей тайной, прибегает к вымогательству, терзает нас обеих. Придумал для нас угрозу: если мы не станем ему подчиняться и не дадим все, что он потребует, он донесет на нас и австрийскому и турецкому правительству, а те, как только узнают, что посреди Дуная образовалась новая территория, прежде не упоминавшаяся в мирных соглашениях, тотчас выступят со своими претензиями, и, пока спор не решится в пользу одной из сторон, принудительно выселят со спорной территории всех жителей, как это было с пространством между горой Аллион и рекой Черна, объявленным «ничейной» землей. Достаточно этому человеку произнести хотя бы слово, и все, что тяжким двенадцатилетним трудом создано мною на этом пустынном острове, будет загублено, и тот райский уголок, где мы так счастливы, вновь будет превращен в дикие заросли, а мы опять станем бесприютными. И это еще не все! Ведь мы вынуждены бояться не только имперских чиновников, но и церковных служителей. Стоит только епископам, патриархам, архимандритам и деканам прознать, что на острове подрастает девица, которая с момента своего крещения не видела храма божьего, и ее тотчас же насильно отберут у меня и поместят куда-нибудь в монастырь. Теперь, сударь, вы знаете, почему тяжелые вздохи не давали нам уснуть?
Тимар задумчиво следил за диском луны меж стволов тополей, постепенно клонившихся к горизонту.
«Почему мне не дана власть вершить судьбы людей?» – думал он про себя.
– Этот человек в любой день может пустить нас по миру, – продолжала Тереза. – Единственное, что для этого требуется, сообщить в Вену или в Стамбул о вновь образовавшемся острове на Дунае, и мы погибли. Ни один человек в округе никогда нас не выдаст, на это способен только он. Но я готова на все. Своим существованием остров обязан лишь этой скале на мысу: она удерживает изгиб дунайского рукава. Однажды, в тот год, когда турки сражались против сербского короля Милоша, сербы-контрабандисты спрятали на острове в ракитовых кустах три ящика пороха. За ними так никто и не явился; возможно, те люди, что спрятали здесь порох, были схвачены, а то и убиты. Я эти ящики отыскала и перенесла сюда, в самую глубокую пещеру. Сударь! Если с этого ничейного острова меня захотят прогнать, я брошу зажженный фитиль на ящики с порохом, и скала вместе с нами взлетит на воздух. Следующей весной после ледохода от этого острова и следов не останется… Теперь вы понимаете, отчего вам не спалось на этом месте?
Тимар, подперев голову руками, смотрел перед собой.
– Скажу вам еще кое-что! – добавила Тереза, наклоняясь ближе к Тимару, чтобы он расслышал ее шепот. – Мне кажется, у этого человека была и другая причина появиться на острове именно сегодня и внезапно исчезнуть, кроме того, что он проигрался в карты в каком-нибудь распоследнем кабаке и надеялся у меня разжиться деньгами. Этот визит был адресован вам или второму господину. Пусть побережется тот из вас, у кого есть сокровенная тайна!
Луна скрылась за тополями, и небо на востоке стало светлеть. В лесу защебетали желтые дрозды. Близилось утро.
Со стороны Островы донесся протяжный звук рожка – побудка для корабельщиков.
На тропинке послышались шаги; один из матросов пришел доложить, что судно готово к отплытию, ветер стих и можно трогаться в путь.
На пороге хижины появился Евтим Трикалис с дочерью – белолицей красавицей Тимеей.
Ноэми тоже была на ногах, из свежего козьего молока готовила в кухне для гостей завтрак; поджаренная кукурузная мука заменяла кофе, а вместо сахара служил сотовый мед. Тимея не стала пить, уступив свою порцию Нарциссе, а та, к превеликому огорчению Ноэми, приняла от чужой девочки угощение.
Евтим Трикалис поинтересовался у Тимара, куда девался господин, пожаловавший сюда вечером. Тимар пояснил, что тот отбыл еще ночью.
От этой вести лицо Евтима Трикалиса омрачилось пуще прежнего.
Затем все они распрощались с хозяйкой дома. Тимея капризничала, жаловалась, что все еще неважно чувствует себя. Тимар задержался последним и на прощание вручил Терезе пестрый шелковый платок турецкой работы – в подарок Ноэми; Тереза поблагодарила его и пообещала, что Ноэми станет носить платок.
– Я еще вернусь сюда! – сказал Тимар, сжав руку Терезы.
По тропинке, поросшей мягкой травой, гости направились к лодке. Тереза и Альмира проводили их до самого берега.
А Ноэми взобралась на верхушку скалы и, усевшись на густую подстилку из мха и мясистых листьев седума, устремила мечтательный взгляд своих голубых глаз вслед удаляющемуся челну.
Прибежала Нарцисса и уютно устроилась на коленях хозяйки, грациозно изогнув шею и головой ластясь к Ноэми.
– Прочь пошла, изменница, неверная! Так-то ты меня любишь? Вмиг переметнулась к другой девочке только потому, что та красивая, а я нет! А теперь, когда она уехала, опять ко мне вернулась, теперь и я для тебя хороша? Ступай прочь, не люблю тебя больше!
Приговаривая эти слова, Ноэми обеими руками прижимала к груди ластящуюся беглянку, округлым нежным подбородком касаясь белой кошачьей головки и не сводя глаз с далекого челна. В глазах ее блестели слезы.