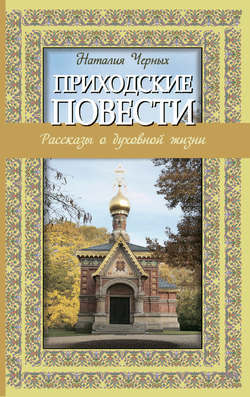Читать книгу Приходские повести: рассказы о духовной жизни - Наталия Черных - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Великая Суббота. Хроника четырех дней
Глава 1. День первый
ОглавлениеБобренев монастырь. Коломна. Фото Д. Ометсинского.
Повесть началась нынешним Великим Постом и закончилась новосельем героев. Правда, героев в повести больше, чем двое, да и описанные приметы времени соответствуют теперь уже прошлому (повесть писалась мною не один месяц). Пишущий не может не отстать от времени. Но и обгоняет свое время, намечая перспективу грядущего. Как бы простым карандашом.
Пробуждение ото сна не всегда напоминает музыку. И уж совсем не похоже на будильник. В нем бездна трепета, как перед броском в холодную воду, как в замирании на верхней ступеньке, с которой вдруг удивительным образом открывается крыша. С которой виден весь город… и небо.
Стеша спешила: слишком мало времени, чтобы добраться с Пятницкой, где в небольшом особнячке, по определенным дням и часам, начинались и заканчивались ее трудовые будни – спешила на Ярославский вокзал. Чтобы успеть взять билет и сесть в электричку, обозначенную в расписании числом 661, отправляющуюся в 16:08 до Сергиева Посада.
Стеша могла не успеть к началу первого постового вечернего богослужения и потому волновалась. Денек выдался замечательный: небо с легкими кружевными тучками, солнце медовое. Начало поста совпадало с романовскими числами, как про себя называла Стеша дни начала марта. Приобретенные несколько лет назад, романовские дни виделись Стеше чем-то вроде драгоценностей: надеваешь не каждый день.
Толпа у билетной кассы: за последние несколько лет возродились очереди и вместе с ними – странные привычки. Похожие на те, которые видела Стеша, когда была ребенком. Изменились турникеты, стали другими билеты. Стеша, наконец, вытащила из мерцающей пасти мелованный, тонкий листочек. Просто лепесток цветка! Машина заморгала зеленым глазом: проходи. Стеша билетики в Лавру хранит. Дома вложит и нынешний билетик в крупный том недавно приобретенной книги. Хорошие закладки получаются! Словно бы освященные. Греза, конечно, но ведь добрая греза-то.
Пригородные поезда Стеша любила. Особенно при хорошей погоде и в любимом направлении. Вот за окном показались обаятельные желтенькие стеночки в районе Яузы. Во время пути Стеша так хорошо высыпалась за короткое время, как не получалось дома. Вот позади Мытищенский рынок; отшумел. Правило вычитано: частью с утра в метро, частью на работе – можно и поспать. Ради поста правило читалось шепотом, стоя и с положенными поклонами. Не в пост такая строгость находила только по вдохновению. И ноги, и возраст – не юность. Хотя к ней часто обращались: девочка!
Н.Н. Дубовской. Троице-Сергиева лавра. 1917
Стеша надеялась на обычное мирное путешествие. Не тут-то было. Где-то за Пушкиным неожиданно проснулась оттого, что в груди заныло тягучее погребальное песнопение – мудрое и глубокое. Грустное, но очень привлекательное, так что не оторваться: так бы и слушала. Стало зябко, мрачно. Бархатные остроконечные ели за Софрино сгорбились под внезапным тяжелым мартовским снегом. Стеша долго не грустила: по обычной человеческой изменчивости. Подумаешь, снег пошел! И верно: за Хотьково над лебедиными покровами поверх израненной земли заиграло ясное солнышко. Однако смуток остался. Стеша до самого Посада вспоминала будто вышедшие из памяти моменты. Мучительные, невыносимые, напрасные и неминуемые.
Запах железной дороги оседает на самом дне памяти, и его оттуда ничем никогда не вывести. Он не растворяется ни в благоуханной радости, ни в смрадной злобе. Ни один парфюмер не сможет изобразить нечто подобное. Запах зимней железной дороги – явление неземное. Особенно, если идет снег. От дуновения с рельсов и шпал смешался весь мир: железо, лес, снег.
Внутреннее убранство Троицкого собора. Иллюстрация к книге «Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру». 1856.
Ей все нравилось в Сергиевой Лавре: и убранство, и полумрак, и трогательно неправильное пение
Смешались в пестрый и однообразный поток еда, вино, слезы, даже звуки – человеческого голоса и ангелов, охраняющих человеческую жизнь. Самый страшный – а что такого страшного в слове страшный? – запах. Нечто близкое к святыне, именно к святыне. Человеческая жизнь – тоже дорога.
В Посаде Стеша вновь почувствовала себя оживленной и полной сил. Замерзнув, поняла, что оделась несколько легче, чем следовало. Не беда! Холод прогнать можно! Глоток горячего привокзального чаю с тайной молитвой к Преподобному Сергию и хрустящим пирожком – согрели. До Лавры Стеша долетела мигом. Она уже научилась креститься при виде куполов и святых изображений незаметно, не привлекая внимания окружающих. Но всегда следила, чтобы крестное знамение было полным.
Под гору – бегом, в гору – с усилием. Вот и знаменитый переход. После – ступеньки: сосчитать бы! Из нищих – только окаянные остались. Но мелочи нет – все равно. У входа необычно для будней пусто. Сразу видно, что пост начался. Служба уже идет, но Троицкий собор еще открыт. Обычно с началом вечернего богослужения дверь в Троицкий запирается. Но сейчас – Пост, седьмой час вечера. В Троицком – как днем: молебен, свечи, даже дверь в Серапионову палату отперта. Стеша приложилась к мощам. Так бы тут и осталась! Затем поспешила в Трапезный храм. Ей все нравилось в Сергиевой Лавре: и убранство, и полумрак, и трогательно неправильное пение.
Вид человеческого горя не казался здесь мерзким. Особенно запомнилась ей Пасха. Единственный раз была в Троицком, у Преподобного, на Пасху. Такого утешения, кажется, и не видела она больше. Чувствовала себя чистой и белой, легкой, летучей. Роковая волна народу чуть не растерла – как нож прорезает кусок шоколадного масла – молодого монаха, раздающего теплоту. Но, повинуясь движению его руки, все отступили, стараясь построиться по линии, гуськом. Всем хватило места. А какая была теплота вкусная! Не успевали ведра подносить. О лаврских просфорах и артосах можно целую книгу кулинарную написать. Таких пышных и вкусных ломтей в Москве нет.
Служба в Трапезном храме. Народу, как водится, лес. Стеша опоздала, но в дороге успела почитать несколько песен. Вошла тихонько, встала слева, у креста. Прислушалась, закрыла глаза и стала пробовать молиться.
Не буду ей мешать.
Родители Стеши оставили ее на собственное попечение весьма рано. Ничего хорошего такой метод воспитания не дал. Здоровье было безвозвратно потеряно, а высшего образования Стеша не получила. Утешалась и восполняла недобранное обучение книгами. Читать любила и читала много. Жилья своего у нее не было, но со временем она втолковала родственникам, что ей нужна отдельная квартира. В этот период она и во сне видела, как стоит в Даниловском, Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, и молится князю Даниилу. К слову о душе и ее доме.
Освящение Вознесенского войскового собора в Новочеркасске. Фотография. 1905.
Отец Игнатий напоминал храм, в котором служил: большой, стройный, серебристый
Алексеевское подворье и его прихожан Стеша полюбила сразу, и даже название подобрала – общинка. Обжегшись на воде, дуют на молоко. Стеша старалась держаться подальше от внутриприходских отношений. Поначалу крепко привязалась к настоятелю: он был ей как духовный отец. Она так его и называла, так за отца Игнатия и молилась. Потом успокоилась, но на исповедь к Батюшке все равно ходила и выстаивала всю длиннющую череду. Отчасти потому, что отец Игнатий хорошо помнил ее нужды и умел двумя словами или подарком подсказать образ действия.
Отец Игнатий напоминал храм, в котором служил: большой, стройный, серебристый. За последний год в его обращении появилась захватывающая резкость, но она не отталкивала. Наоборот, привлекала и домашних прихожан, и диких. Спорить отец Игнатий не умел и не любил. Начинал запинаться и скатывался до простого: не знаю!
Однажды, поддавшись чувству озлобления, Стеша попробовала вести себя так, как некоторые духовные дети отца Игнатия. Скоро представился подходящий случай. Стеша износила зимнюю пару сапог, хотя и не совсем. Сапоги прожили бы еще сезон. Но модель уже вышла из моды. После исповеди решительно спросила:
– Отец Игнатий! Мне нужны новые сапоги. Зима скоро.
Батюшка нервически вздрогнул и поднял глаза. Затем уставился куда-то в даль. Едва мелькнули огромные, во весь глаз, зрачки. Думал или молился отец Игнатий – неизвестно. Потом растерянно забормотал:
– Стешенька! Я же о вас всех забочусь!
Стеше стало до жути стыдно. Вернувшись домой, в почтовом ящике обнаружила квиточек на перевод от родственников. Такое случалось, хотя и редко. Стешу не забывали.
На следующий день после литургии на Алексеевском появился известный артист Борис Борисович. Как шептались по углам, пришел потому, что у него нечто ужасное произошло в семье. Или творческий кризис наступил: кто знает? Борис Борисович стоял возле отца Игнатия, отслужившего только что праздничный молебен. Батюшка покачивался от усталости. Потом вдруг что-то сказал и ушел, оставив артиста в одиночестве. Борис Борисович, в джинсовой куртке, с хвостиком, заправленным под ворот, мирно ждал.
Вдруг перед Борисом Борисовичем вырос Мыкалка – важный, чистенький, благообразный. Вздохнул как-то по-бабьи:
– Э-и-х! Бориска ты, Бориска!
Мыкалка ничего более делать не собирался, но тут рядом оказалась матушка Ольга. Она, вполовину ниже ростом, ухватила его за шиворот иссохшей рукой:
– Ну-ка, пойдем, выйдем. Повапленный!
Мыкалка кротко повиновался.
Население общинки ждало возвращения отца Игнатия, но вместо него вышел отец Ефрем, молодой, красивый священник. Долго в левом крыле возле аналоя, напротив любимой всем приходом Тихвинской иконы Божией Матери, гремел его ясный голос. И тихо струился в ответ тусклый голосок Бориса Борисовича.
Стеша стояла оцепенев: Борис Борисович был голос ее юности. Она не то, чтобы любила его, но некоторые песни казались ей близкими. И вот он здесь. А отец Игнатий его не исповедует. Стеша побледнела: нахлынули волны воспоминаний, и все такая глупость! Щеки предательски вспыхнули. Стеша, вздохнув, вышла из храма. Ну не автограф же просить у Бориса Борисовича!
Отец Игнатий внезапно оказался рядом, окруженный небольшим кагальцем, состоящим, в основном, из дам. Видимо, спешил на требу. Стеша, прорываясь сквозь толпу, попыталась получить благословение. И вдруг:
– Возьми. Я спрашивал – твой размер.
Пакет с сапогами. Откуда? И размер даже Батюшка узнал, а как?
Стеша поняла, что надо предпринять в ответ на сапоги. Чтобы искупить вину. Хотя не смогла перебороть любопытства и, едва вошла в дом, начала мерить сапоги. Сапоги оказались новые, модные. Лишь чуть поношенные. Лицо горело – Стеша с трудом мирилась с тем, что виновата. Схватив квиточек, помчалась на почту, получила деньги и купила на все букет белых роз.
Любимые цветы отца Игнатия. Трепетные, прохладные, острые, с глубокой таинственной зеленью широких, увенчанных изящной резьбой, листьев.
На следующий день приходился праздник «Всех Скорбящих Радости». Накануне отец Игнатий исповедовал. Необъяснима привлекательность не выделенных красным церковных праздников, о которых знает весь православный люд. Малый престол – кажется, так называются они. Стеша появилась к самому началу утренней. В темноте все же сумела разобрать, что народу полно. Вереница душ бурлила, начинаясь у дверей. Стеша и не надеялась попасть к исповеди нынче. Но вдруг:
– Стефанида!
Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость с грошиками». XIX–XX вв. Лондон, Британский музей.
На следующий день приходился праздник «Всех Скорбящих Радости»
Стеша, высоко подняв розы, пробралась к аналою, помолилась и подошла под разрешительную молитву, едва успев набормотать свои прегрешения. Отец Игнатий, нарядный, в новой бирюзовой, сверкающей серебром епитрахили, спросил:
– У вас день рождения?
Похоже, что день рожденья нынче у отца Игнатия.
– Нет. Цветы – Божией Матери.
Крещение Господне. Фреска в Киево-Печерской лавре. Фото С. Камшилина.
Мир украшался памятью об изначальном – о Небесном Доме
Батюшка благосклонно кивнул и, аккуратно приняв букет, отдал его церковнице Анне, которая вдруг оказалась рядом с аналоем.
– Сапоги подошли?
Стеша встрепенулась.
– Отченька, благодарю вас!
Помолчав, Батюшка предупредительно нахмурился.
– С покойницы.
Стеше в такой день плохого настроения никак не хотелось.
– Не страшно. Я виновата. Позвольте их отдать.
Дернув епитрахиль за пуговку, отец Игнатий вздохнул.
– Нет уж, носи. Как память. Каемся?
– Каемся!
И на Стешу опустилась примиряющая тишина.
Отец Игнатий смотрел куда-то мимо. Лица не было видно.
– Хоть сапоги подарил, – словно про себя сказал отец Игнатий.
Последнюю песню канона дочитали. Стеша особенно любила повечерие. Долгое, подобное плаванию по ночной реке, теплой и до жути глубокой: как бы не упасть. Говорят, бывают реки, где вода – как парное молоко. Отплытие: с нами – Бог! Волны псаломских слов, не пропустить бы мимо. Середина: где же двери милосердия? Зарницы таинственных славянских корней. Уже и берег близко: Господи Сил, никогда не оставляй нас! Вот так бы жить.
Постепенно зыбкая гладь душевного мира покрывалась землицей. Стеша старательно клала поклоны, а иногда повторяла слова молений – одними губами. Лаврское пение помогало молитве и даже учило молиться. Видимый, такой тяжелый мир украшался памятью об изначальном – о Небесном Доме.
Цветные блески лампад в потемневшем от времени паникадиле расположились картой звездного неба. Узорное золото Царских врат мерцает, как первые солнечные лучи. Контраст внешних обликов молящихся осознавался как контраст своего внутреннего мира. Служба казалась совершенной. Стеша тихонько поклонилась и вышла. Такой день бывает лишь раз в году.
В поезде на обратном пути Стеша почувствовала озноб. Дневного перепада настроения не последовало. Значит, обычная простуда. Все-таки просквозило. Стеша, вздохнув, принялась разглядывать пассажиров.
В вагон заходили стайкой: монах, две монахини, молодой господин приятного вида и она. Веяние божественной службы продолжалось, и Стеше хотелось удержать его. Взялась тихонько читать молитвы на сон грядущим.
К концу молитв внимание само по себе переключилось на разговор, который кипел у нее за спиной. Говорили монах и молодой господин. Оказалось: приятели по семинарии. Молодой господин словно спешил выложить все из сердца своему приятелю.
На остановке «Семхоз» монах вышел. Молодой господин, видимо, разбередив душу воспоминаниями, сел, уронив голову на руки. И тут:
– Не скажете, который час?
Напротив господина оказался мальчонка, будто дремавший на сидении в конце вагона. С уходом монаха перебрался к господину под крыло.
– Скажу. А ты кто?
– Послушник Стефан!
Стеша насторожилась: это не по ее ли душу: Стефан?
– Подслушник ты, а не послушник!
Оказалось, действительно послушник. Бедного монастыря, связанного с Лаврой хозяйственными узами и не так далеко от нее расположенного.
Ехал Стефан с похорон последней своей бабушки.
Из разговора Стеша поняла, что молодой господин – священник.
Мальчонка уловил чутким ухом, кто его сосед, и вот пришел, так сказать, под благословение. Почувствовал своих. Мать у Стефана тяжело пила и сыном не занималась. Стефан, хоть и домашний беспризорник, маму любил. Делал все, что мог – единственный мужчина в семье. Однако любил бродить по свету. Знали Стефана всюду и все. Лаврские Владыки, афонские монахи, живущие на подворье в Москве, настоятели храмов, монахини в Дивеево – со всеми общий язык нашел. Жил Стефан на окраине, в Бутово. Года не прошло, а у него умерли несколько родственников. Пятнадцатилетний Стефан оказался наследником квартиры и двух загородных домов «на стране далече» – в другой республике. Оформление документов занимало массу времени, и Стефан, который еще умудрялся как-то исполнять обязанности пономаря, школу совсем забросил.
– Как же вы быстро теперь взрослеете, мальчишки! – сокрушался отец Антоний. – Оттого, думаю, что вокруг так много стало грязи.
Алексий, человек Божий. Православная икона
Стеша, наконец, не выдержала и подсела к говорящим. Отец Антоний метнул строгий взор и предупредительно сказал:
– Чего вам, матушка?
– Да не матушка я! – сказала Стеша. – Я прихожанка такого-то храма. Отца Игнатия знаете, наверно?
Отец Антоний вспыхнул:
– Он у нас лекции читал! Мы думали, глупости говорит. О некоторых ошибках. Потом оказалось – все, что говорил, верно.
Стефан не отводил глаз и слушал, боясь пропустить даже слово. Видимо, тоже любил неофициальную обстановку. В своем кругу.
В Мытищах отцу Антонию выходить. Стеша, чувствуя какое-то особенное веление, все думала, что же подарить ему. В сумке – только бумажные иконки. Хранимые в документе, как некое свидетельство. Божия Матерь «Взыскание Погибших» и Алексий, Человек Божий. Поначалу хотела подарить «Взыскание», но не смогла. Образ для нее связан был с отцом Игнатием. Казалось бы, подарила образ Алексия, Человека Божия из меркантильных соображений: в храме частенько раздавали такие же. Но отец Антоний вздрогнул, увидев образ: при храме, где он служил, окормлялись беспризорники, вроде Стефана. Святой Алексий, Человек Божий, покровительствует беспризорным и нищим.
И тут со Стешей произошло удивительное – словно бы и не произошло. Ей почудились колокольный звон, вонзающиеся в небо хоругви и особенно одна – темно-зеленая, с вышитым образом Алексия, Человека Божия. Та же, что в храме. Стеша увидела Великую Субботу, пасхальную ночь. Великая Суббота приходилась в этом году как раз на тридцатое марта. Но вот в какую дальнюю страну собрался неприкаянный тезка Стефан?
* * *
Стеша не могла понять, чем девушка в голубом привлекает ее внимание. Не слишком высокая, темноволосая, смуглая, с крупными, слегка прищуренными светлыми глазами. Довольно плотная, круглая, но стройная. В движениях заметна была порывистость. Стеша, длинная, хрупкая, русалочьего вида, даже завидовала ей – по-хорошему, благожелательной завистью. Как-то услышала, что зовут девушку Елизавета. Вета. И что она недавно вышла замуж.
* * *
Ирина Георгиевна кушала долго. Крупный, раскрытой черной сливой рот мерно волновался, приводя в движение плотные, чуть набухшие черты лица. Однако в небольших, хорошо вырезанных, глазах всегда мерцало настороженное чувство. О таких говорят: зоркие. Чай Ирина Георгиевна могла пить часа два. В канун больших церковных празднеств совсем ничего не ела, выходила только к богослужению и даже по дому ничем не занималась. Даже забывала ноги помыть. Сказалось долговременное пребывание в разные годы по разным обителям. Ирина Георгиевна вполне довольна была уделом домохозяйки: платили неплохо. Внешность у Ирины Георгиевны впечатляющая. Полная, с легкой, как у самолета на посадке, походкой. Ни одной морщины на седьмом десятке лет. Голос громкий, властный, приятный – сколько-то лет на клиросе пела.
Н. К. Зацепин. Монастырки на клиросе. 1852
Вета выросла здоровой и упрямой. Выучилась, добыла работу. Теперь одевалась и ела на свои деньги, иногда что-то подбрасывая матери.
Однажды Вета за ужином объявила, что хочет познакомить маму с Михаилом, женихом. Для благословения.
Воздвижение креста. Православная икона.
День был праздничный – Крестовоздвижение
Ирина Георгиевна сухо ответствовала:
– У нас, у всех, в роду – несчастливые супружества. Так что имей в виду. Это дело – Богом запрещено! По крайней мере, нам. Я как страшный сон вспоминаю свое. Мы шли в загс по разным сторонам улицы. Эта жизнь вызывала во мне отвращение.
Однако лицо матери вдруг молодо побелело, а глаза метнули зоркие молнии.
– Так как же быть? – удивилась Вета.
– Только молитвенники! – воскликнула Ирина Георгиевна и поспешила прочь от разговора, махнув широкой юбкой.
Мишу Вета все же пригласила домой. К себе в гости. Ирина Георгиевна Мишу знала. После – что Бог даст.
Накануне оба: Миша и Вета – пошептались с отцом Игнатием. Тот сказал:
– Попробуем маму уговорить. Помолимся.
Вета решила приготовить изысканный салат. Мужчин в доме не было, ножи точила Вета. Наиболее тяжелую работу по дому делала Ирина Георгиевна, а вот затачивание ножей считала делом несерьезным. Вета достала новенький брусок и принялась водить лезвием, как научил ее сотрудник, Анатолий Васильевич.
Вета водила лезвием по бруску. От каждого движения раздавался скрежет, напоминающий тоскливые мысли. Сталь затрепетала, как подцепленная на крючок рыбина. Раздался предупреждающий графитовый запах.
Тут загремел дверной замок: Ирина Георгиевна со службы вернулась. День был праздничный. Крестовоздвижение.
– Ты что делаешь? – спросила мама не сильно строго, для воспитания.
– Нож точу! – не смущаясь, ответила Вета.
Ирина Георгиевна зашумела широким носом.
– Я вспоминаю себя: как возьмусь что делать в праздник, так все руки изрежу. Поделом! Соблюдай праздники.
– Мама, завтра салат с сыром будет. Кушай.
Вета, довольная, водила кончиком пальца по краю салатницы: хочется попробовать, но пост, Крестовоздвижение. Интересно, а готовить скоромное считается грехом или нет? Надо бы спросить, уточнить.
Ирина Георгиевна откликнулась из глубины своей комнаты:
– Ты знаешь, я эту пищу не ем.
Ирина Георгиевна в постные дни не только к ножу не притрагивалась, но, кажется, и ложки не брала. Жевала хлеб и укоряла себя:
– Какие у меня острые зубы! В аду «у них» острее!
Мишу Вета никогда Мишей не называла. К нему подходило: Мил. Сокращенное от Михаил. Миша и Вета познакомились на церковных курсах, за общим послушанием. Чистили орлецы для архиерейской службы. Поначалу весело болтали, а потом Мил подошел к Вете: помочь повесить орлец на перекладину. И поднял умоляющие лучистые глаза. А через некоторое время Вета увидела Мила на исповеди у отца Игнатия. Встречались влюбленные редко. По очереди бегали к отцу Игнатию, а тот тихо и бесцветно говорил:
– Берегите себя. Близко смертный грех.
Икона Божией Матери «Казанская». 1884
Вскоре Мил подошел к отцу Игнатию и сказал:
– То и то. Благословите.
Услышав предложение, Вета опешила. Что-то пробормотала про завтра и убежала. Подруга, старше года на три, сочувственно посмотрела, в ответ на запинающееся признание: все замуж хотят, не только ты.
Ирина Георгиевна молодых все же благословила. Нехотя, но с довольными огоньками в глазах. Спросила:
– Ну, зять, любишь, где взять?
– Да, – ответствовал Мил. – Зарплату поднять обещали.
Салат с сыром, хорошо уполовиненный Ириной Георгиевной, поглядывал со дна белой, с серебристыми узорами, салатницы.
Мама выглядела помолодевшей: широкая синяя, в ромашках, блуза, вымытая голова, подкрахмаленный светлый платочек на внушительной «шишке». В благословение вручила икону Казанской Божией Матери.
Жизнь Веты после замужества мало изменилась. Своего жилья у Мила с Ветой пока не было и не предвиделось. Отец Игнатий знал, сокрушался и умолял:
– Не унывайте. Бог управит.
Мысль о ребенке билась в обоих. Но Бог ребеночка пока не давал. К докторам сходили однажды. Ответ был утешительный: оба здоровы. Так прошло несколько лет – как один день.
– Мы родили друг друга, – однажды сказал Мил. Закончились Святки.
На Прощеное Воскресение, обнявшись со всем приходом, Мил и Вета уже вышли из храма. Синие тени, как неродившиеся дети, плясали у ступеней.
Данилов Монастырь. Храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. 1882
Мил появлялся на Алексеевском подворье гораздо реже Веты. Ходил в Данилов монастырь, там у него и духовник был.
Отец Игнатий сказал однажды:
– Священник – как половичок. У каждого – свой цвет. Это по человечеству. Саном все равны. Вот, я протоиерей. А у него духовник – иеромонах.
Рысенок. Фото Bernard Landgraf.
Вете приснилась Кася – рыженькая, похожая на рысь…
Вета знала, что не просто иеромонах, а архимандрит. Из Даниловского. Духовное чадо того же отца Игнатия, Владыка Мелетий.
Из храма уходить не хотелось. Однако пора. Шли к воротам медленно, оглядываясь на храм, золотистое око которого казалось теплым в мрачноватой сумеречной синеве.
Как появился Мыкалка, Вета и Мил не заметили. Едва не ударились об его худую жилистую грудь. Мыкалка, в потертой серой курточке, аккуратно разорванной на левой стороне груди, словно вырос из-под земли:
– Ваше благородие, госпожа княгиня!
И на Вету высыпался целый мешок дешевой карамели. Карамель была щедро полита сильными духами. И карамель, и духи лежали где-то со времен Ветиного детства. Духи назывались «Красная Москва».
– Наследство вам!
Высказывание о наследстве перекрыл старческий голос:
– Вот я тебе, соломенный!
Зоркая не по годам матушка Ольга уже спешила к Мыкалке, грозя маленьким кулачком. Тот сделал пару шагов ей навстречу, встал на колени и, скрестив руки, тихонько воскликнул, умоляя строгую монахиню:
– Государыня! Я должен был предупредить! Я должен!
– Грешница я, – вздохнула матушка Ольга. Но Мыкалку поволокла за собой. – Неча пенять, рожа крива. Порядок нарушаешь.
Долго еще слышалось Мыкалкино восклицание: я должен! Должен!
Ночью, аккуратно на Великий Пост, Вете приснилась ее любимая кошка. Старенькую Касю отвезли под стены одной обители. Ирина Георгиевна вот уже несколько лет сокрушалась: жалела Касю.
Вете приснилась Кася. Рыженькая, похожая на рысь, с белым пятнышком на кончике невероятно пышного хвоста и серебристыми кисточками на ушах. Кася пряталась в молодом ельнике. Теплый летний ветерок гладил пестренькую шкурку. Кошку совсем не было видно среди песчаника и растительности. По прозрачной опушке гуляли дикие перепелки. Маленькие темные курочки с крохотными крепкими носиками. На них-то и охотилась Кася.
* * *
Вернувшись из Лавры, Стеша, допивая вечерний чай с ромашкой, вспомнила небольшое происшествие накануне.
Матушка Анна напоминала Стеше торпеду. Ядерную боеголовку последнего поколения. Пожилой монахине дана была уникальная способность прокладывать себе дорогу в самой гуще людской.
Поначалу действия Анны Феодоровны, до того, как она стала монахиней, вызывали у Стеши ужас. Вот, собрались души к исповеди. Священник приглашает, кого нужно. Кто правило дочитывает – шепчет. Кто свечи передает: просит. И вдруг возле аналоя появляется Анна Феодоровна: в шелковистом темно-синем пальто, в кружевной черной косынке, с букетом дорогих цветов и победным воплем:
– Простите меня, я к исповеди! В монастыре молилась за своих родных батюшек!
И – затор минут на сорок. После, как следствие: чрезмерная усталость, мысли врозь, священник торопит – хоть плачь. И в следующую субботу – точно так же. Однажды Стеша не выдержала и сказала, сжавши виски:
– Теперь – ожидание на сто лет!
Анна Феодоровна довольно часто влетала на исповедь ровно перед Стешей.
Прошлой Пасхой Анна Феодоровна сидела возле храма на лавочке и всех усиленно просила о ней молиться: мол, очень сильно болеет. На больную она не походила никак. Старческие ноги выдерживали не только продолжительные богослужения, но и бесконечные провожания после.
Спустя какое-то время Анна Феодоровна появилась в монашеском облачении. Как замечала Стеша, облачение на ней было всегда тщательно отглажено, чисто и ухожено. И будто всегда новенькое. Особенно хорошо было летнее, белое.
Таинство исповеди. Икона. Конец XIX в.
Она казалась заново рожденной. Только вместо одной Анны Феодоровны теперь в Алексеевском была чуть не сотня.
Б.М. Кустодиев. Монахиня. 1920.
Спустя какое-то время Анна Феодоровна появилась в монашеском облачении
Теперь матушка Анна спешила к началу службы в храм. За ней шел один из алтарников и нес венский стул. Потом монахиня на этот стул усаживала старушку, а сама летела в другой конец храма: показывать знакомой молитвослов для слабовидящих. Ее вытянутое аристократическое лицо и черная шаль постоянно попадались Стеше на глаза, стоило только прийти на подворье. Монахиня, кажется, присутствовала везде и всегда. Могла взять знакомого под руку, во время богослужения вывести в притвор и что-то долго объяснять, уговаривать, утешать.
На Прощеное Воскресение Стешу вдруг цепко схватили за руку. Не вырвешься! Так и есть: матушка Анна.
– Голубушка, простите меня! Я слышала, вы живете совсем одна.
Стеша даже вздрогнула: с такой силой монахиня пожала ей кисть.
– Простите меня, матушка Анна! За все – слава Богу.
– Голубушка! – воскликнула монахиня, сгребла Стешу в охапку, обняла и прижала к груди. – Вы ведь Стефания?
– Да, Стефанида.
– Святое имя! Помолитесь обо мне, грешной, а я вам пригожусь еще.
И матушка Анна исчезла в глубине храма.
Стеша потом видела, как она тащила за руки: справа и слева – мужчину и женщину. Очевидно, своих родственников.
– Я у вас его забираю нынче, вы только на меня не сердитесь. Но хочу обещать, что выгоню. Я и в прошлый раз его выгоняла, да сам не шел.
Обогнав Стешу, странная компания оказалась возле темно-синей новенькой «Лады». Припарковано авто как раз напротив фонаря. Монахиня величественно села на переднее сидение. Стеша, как следует, поклонилась перед выходом, прошептала короткую молитву. И затем нечаянно взглянула на ярко освещенное фонарем авто. Монахиня села рядом с водителем. Лицо матушки Анны показалось Стеше необычайно сосредоточенным, отрешенным. Едва пошевелив устами, монахиня перекрестила дорогу и перевернула четки.
Ясное солнышко смутилось, и небо затянули теплые южные тучки. Косматые, неприбранные, повылезавшие из теплых берлог воздушных лесов и чащ. Прилетели первые птицы: попить талую воду, чтобы птенчики выросли крепкими и здоровыми. К полудню засвистел, закружил тонкий и коварный мартовский ветер, от которого невозвратно мутится ум. Кто вполне узнал его силу, для того уж никакой другой погоды не существует. Тот только и ждет, что снова придет он, влажный, слабый и почти смертельный.
* * *
На первой вечерней постовой службе Мила не было. Понятно: задержали на работе или пошел к духовнику. Но все же неприятно. Понемногу Вета утешилась. В полусвете храма вздрагивал голос отца Игнатия – читался псалом «Живый в Помощи». Вета иногда ловила себя на том, что если она и помнит что об отце Игнатии, так это голос: высокий, мелодичный, какой-то мяукающий. И руки: иссохшие длинные пальцы. Не раз приходило Вете на ум, что в первые дни Великого Поста в храме собирается весь народ. Именно народ. Словно кроме храма, нигде людей нет. И добрая теснота, и коленопреклонения, и покаянный свет свечей – все возвещало душе о начале какого-то большого изменения. Как его назвать? Поход, строительство?
Домой ехала мирно, читала правило на сон грядущим. Странная, глубокая дремота подкатывала к самому сердцу, сменяясь приступами чуть заметной тошноты. Уж не простыла ли она?
Едва вошла – звонок. Мил! Приезжал к ней домой, пообедал и побежал в Даниловский: духовник заболел. Попрощались до завтра.
Пребывание Мила обозначилось немытой посудой. И, кроме того, уполовиненной банкой любимых огурцов Ирины Георгиевны.
Посуда еще не высохла, а Вета не допила чай, как вошла Ирина Георгиевна.
– Чувствуешь, какой у нас запах? Потом пахнет. Зять был?
Отпираться бесполезно.
– Был.
– Ел?
– Ел.
– Постом свиньи едят, а люди постом не едят.
И ушла в свою комнату. Сколько дитя ни корми – у чужих слаще.
Утром вдруг снова подступила тошнота. Едва прочитала правило – звонок. Мил. На вечернюю службу не приедет. Голос расстроенный, виноватый. У Веты потемнело в глазах. Бросилась Милу перезванивать: как, что, почему? А он лишь просил прощения и сказал напоследок:
– Может, как вчера, заеду. Мне от вас легче в Даниловский попасть.
– Не надо! – хотела крикнуть Вета, но Мил уже трубку положил.
Вечером Вета снова разволновалась. По дороге в Алексеевский захотелось вернуться к метро и поехать в Даниловский, чтобы увидеть Мила. Но сердце прихватил какой-то странный холодок. Мол, Мила в Даниловском не будет.
Из фотографий С.М. Прокудина-Горского. Иконостас в летнем соборе. Леушинский монастырь. Леушино, Российская империя. 1909. Фотоальбом протоиерея Геннадия Беловолова.
Не раз приходило Вете на ум, что в первые дни Великого Поста в храме собирается весь народ. И все возвещало душе о начале какого-то большого изменения
Так и вышло. Едва домой вошла – звонок. Мил у духовника не был, а поехал в Лавру. Что ему там понадобилось? На столе – чашка с засохшим на донышке компотом. И окурок. А ведь договорились: до Пасхи не курить!
* * *
День выдался подозрительно теплый. Стеша чувствовала себя необыкновенно легко и счастливо. Едва вышла на улицу, как весенняя волна повела ее, и все вещи вокруг показались лучше, чем они есть. Вдобавок, с самого утра в голове сквозила легкомысленная песенка: мое сердце остановилось. Простуда словно бы отступила, хотя Стешу пошатывало и чувствовалось жжение в висках.
Весенние картины сменяют одна другую: яркие, манящие, привлекательные. Вот, совсем перед метро – ветеран. Дед, чья крохотная грудь увешена орденами и медалями, стоит со шляпой и просит милостыню. Сердобольные мамаши спешат мимо, сытые пенсионерки ругают. Вдруг Стешу едва не сбило с ног: черная иномарка. Из нее вышел молодой кавказец, гора мышц с ленивыми глазами, и дал деду какую-то важную бумажку. Стеша тоже положила в шляпу денежку, прошептав: ради Христа! Дед – настоящий воин. Лицо у старика детское, спокойное. Все-таки есть чему учиться у кавказцев.
Стешу вело не на шутку. Словно сами собой всплыли происшествия юности. Стеша рассыпчато, но тихо засмеялась. Правда, тут же спохватилась: второй день Великого Поста! Но волна бежала и влекла Стешу с собой. Воспоминания струились, легкие, теплые, приятные. Словно бы не на работу шла, а на встречу с любимым человеком. И снова – комариное нытье глупой песенки. Песенка уж точно ни при чем. Наваждение какое-то. Стеша заставила себя молиться, но настроение просочилось и в молитву. Теперь молодая женщина шла и пела тропари. Постепенно душа успокоилась. Стеша, выждав, когда сидячее место освободится, заняла его и принялась за Псалтирь. Подозрительное веселье притихло. К концу пути она была уже прежней Стешей.
Старинная Псалтирь. Фото Я. Филимонова.
Выждав, когда место освободится, Стеша заняла его и принялась за Псалтирь
Стеша любила утреннюю дорогу в метро, особенно весной и летом. Предупредительная толчея чем-то напоминала всеобщее воскресение мертвых. Слегка, отдаленно. Поначалу Стеша сдерживала себя, чтобы не блеснуть тем, что молится в дороге, и не всегда получалось. Потом освоилась.
Иначе и малого правила не вычитать.
Длиннющие, широкие юбки в Стешином гардеробе сменились на костюмные, хотя и без разрезов. Вот только платки она любила и челку не хотела выстригать. Ей нравились длинные волосы, и она могла позволить себе их носить. Платки Стеша выбирала тщательно, в согласии с тихой модой прихода. Все должно быть тон в тон, даже колготки. Одна – ну и что, что одна? Плакать от одиночества, что ли?
На работе раздавали конверты с зарплатой. В конверте оказалась солидная премия: к восьмому марта. Стеша кисловато улыбнулась. Хорош праздник! День ареста царской семьи. Однако через некоторое время величественное и строгое настроение улетучилось, и в обед Стеша побежала в ближайший модный магазин покупать обновку. По дороге укоряя себя, потому что не хотела вообще ничего из одежды не покупать постом.
Покупка оказалась утешительной: дорогой пышный свитер. Сто процентов шерсти с нейлоновой ниткой, чтобы не садился. Свитер, похожий на облако. И фирма солидная: кажется, Англия. На такие Стеша только смотрела. Перекрестив вещицу, Стеша взмолилась:
– Господи, помяни мя во Царствии Твоем! И прости мшелоимство.
Как представила, что наденет эту обновку на Пасху – а свитер был лебединой белизны, – так захватило дух. Нет, решила: и на Великую Субботу надену. Словно было для кого. Словно бы влюбилась – или кто-то в нее влюбился.