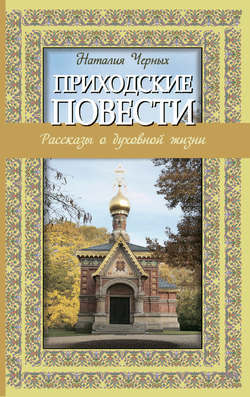Читать книгу Приходские повести: рассказы о духовной жизни - Наталия Черных - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Великая Суббота. Хроника четырех дней
Глава 3. День третий
ОглавлениеБлаговещенский собор и колокольня в начале XX века. Фото Berlogin.
Мягкие сумерки, в которых караулил прохожих мартовский ветер, сменились хрустальным ледяным солнышком. Тучи то пытались отвоевать занятое острыми лучами пространство, то кротко спешили прочь.
Мил совсем не загулял и даже не думал гулять. На него нашла неведомая ранее задумчивость; мир казался словно бы во сне.
Мил вдруг вспомнил Вету в новом шелковом костюме не где-нибудь, а в Лавре, бродя вокруг Михеевой часовни. В ожидании богослужения. И понял, что очень хочет увидеть Вету. Прямо сейчас. И всю службу, как только понуждение к молитве ослабевало, он видел Вету. То в молочно-белом, то в малиновом. То в голубом.
Троице-Сергиева лавра. Открытка времен Российской Империи
Уже направляясь к выходу после службы, Мил заметил какого-то знакомого монаха. У кого в лавре нет знакомых монахов? Оказался Василий Петрович, отец Василий. Он и монахом-то не был в полном смысле этого слова, скорее послушник. Работал вместе с Милом, коренной насельник предприятия. Болел едва не до смерти, дал обет. И вот, живет под крылом Преподобного. Свет фонаря упал на изнеможенное лицо. Глаз не видно, одни слезящиеся точки.
– Миша!
– Василий Петрович!
Они обнялись. Голос у Василия тихий, какой-то долгий, ноющий. Мил всегда чувствовал в этом старичке особенную силу немощи, если так можно сказать. Слабый, но живучий. Внешне Василий напоминал полкана: такой же кудлатый.
– Мишенька, ну как? Те и те? Как сам?
– Слава Богу.
– И то. Помолимся.
Вдруг Василий как-то странно зыркнул на Мила. Как будто увидел Миловы мысли о Вете. Мил тут же вспыхнул, а монах опустил глаза.
– Да я как-то, – начал было оправдываться Мил. И замялся.
– Приезжай. Привези мне росток алоя; знаю, у твоей жены он есть. Очень хочу алоя; он меня утешает. И духовник не против. Привези алоя. На вот, храни – святынька!
И вложил в Милову руку кусок артоса. Откуда артос у послушника на второй день Великого поста? Но Мил и не подумал смутиться.
Мартовская метель ныла тонким голосом, как монах.
– Алой с медом в теплой воде развожу и пью, грешный. Господь лечит. Простыл я. Привези мне алоя!
Василий обнял остолбеневшего Мила еще раз, на прощание: порывисто, дружески. И заспешил в проходную. Издалека доносились уже звоны била: призыв к трапезе. Белые нити мохерового шарфа и волосики из седого хвоста слились с тонкими косицами метели, поверх темного и грубого сукна темноты.
К духовнику Мил все-таки пошел. Перед работой, на третий день поста. Его допустили, поскольку отец Мелетий выписал ему постоянный пропуск. И, кроме того, Мил частенько помогал: в Даниловском затевался ремонт. Братия запомнили его и даже здоровались при встрече. Вот и теперь: Бог благословит!
Отец Мелетий лежал в своей келье и читал Псалтирь. Лет ему было не так много, но пребывание от сиротской юности в полунищем монастыре сказалось: решительно отказывали ноги. Однако во время чтения правила, монах отказывался от мягких подушек под спину. А постом спал вообще без подушек. На замечания врачей, считавших, что кости простудит, только бормотал:
– Потом, потом! Еще немножко.
Увидев Мила, отец Мелетий покачал головой: в келью ворвался запах пивка и сигарет. Молча, прочитав записанную на тетрадном листке исповедь, хлопнул по голове епитрахилью и прочитал разрешительную. Потом еще что-то читал, так что у Мила заныли колени. Пол в келье был холодный.
После разрешительной молитвы, ни говоря, ни слова, указал на дверь. Это значило: отец Мелетий в пост разговаривать будет только по необходимости. Если Господь изволит. Перед выходом Мил обернулся, чтобы хоть насмотреться на духовника. Отец Мелетий отличался необыкновенной красотой. Густейшая ранняя седина вилась по обеим сторонам длинного лица, почти лика. Глаз видно не было, но Мил знал, что порой глаза духовника метают ярчайшие молнии. Роста отец Мелетий был среднего, но от природы имел дар благоговейного движения, какую-то юношескую стать, гибкость и легкость.
Келлия в пещерах Китаевой пустыни. Киев. Фото иерея Максима Массалитина
Из кельи провожал Мила отец Платон, келейник архимандрита. Перед самым выходом остановился и осторожно взял за локоток:
– Минуточку подождите!
Значит, словечко отец Мелетий все-таки скажет. Через келейника.
Отец Платон был детского роста, со звонким голосом и забавными на первый взгляд манерами, напоминающими мальчика в компании взрослых. Но более начитанного человека Мил не знал.
Косвенное общение нечасто применялось отцом Мелетием. Мил загодя насторожился. И точно: вскоре отец Платон вышел и сказал, подтянувшись на цыпочках, чтобы Мил получше мог разобрать сказанное:
– Владыка благословил вас идти в Донской, к игумену Даниилу. Немедленно. До работы успеете.
Добежав до остановки, Мил вскочил в полный трамвайчик. Извилистые улочки вздрагивали под нагруженными рельсами, звонок нервически покрикивал. Вот миновали строгий парк. Вот начались бесконечные, желтые стены внушительных сталинских построек. Вот и опасный на вид поворот, за ним – трудная дорожка в горку. Вот и Донской.
Литургия едва закончилась; убирали храм. Спрашивать церковников о местонахождении игумена Даниила Мил остерегался. Донские насельники и работники ревниво оберегали свое сокровище.
Огромное, потемневшее от времени, паникадило безучастно смотрело, как на небольшом пространстве храма замирало небольшое сердце почти беспомощного человека. Казалось бы, можно и на работу пойти.
Но не тут-то было. Игумен Даниил, невысокий старичок на девятом десятке, но вполне еще бодрый, выбежал из алтаря и пошел прямо на Мила. Он разговаривал, но Мил не видел, с кем. Однако краем уха подцепил последнюю фразу игумена:
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых! И жена, мню, блаженна, иже не иде. Я с шестнадцати лет в монастыре, и то – не свободен. Не то, что судить, а замечать за другим что-либо, кроме Божьего, опасно. Головка будет бобо.
Донской монастырь. Москва. Автор фото неизвестен.
– Владыка благословил вас идти в Донской, к игумену Даниилу, – сказал отец Платон. – Немедленно
И отдернул руку, не давая благословения.
– Жена еси, а я грешный монах!
Мил обернулся, ведомый любопытством: кого это так просвещает старец? И обомлел: в своей широченной черной юбке к выходу спешила Ирина Георгиевна, на вдохновенном лице которой отразился капризный солнечный луч. Она не заметила Мила, а, приложившись к иконе, вышла так быстро, что Милу показалось: кто-то ее подгонял.
Игумен Даниил подошел к Милу сам. Благословил размашисто, звонко стукнув по лбу, и сказал:
– На Алексеевское подворье, вечером. Отпросись с работы, но успевай! Понял? Отцу Мелетию скажи: молюсь, грешный, все знаю. Пусть не плачется.
И снова, заруливая в боковой предел, чтобы идти в келью:
– В Алексеевский! А сейчас на работу ша-агом арш!
Уже исчезая, бросил кому-то отчаянному, возникшему на пути:
– Квартира, говоришь? Не ко мне. Иди к Преподобному.
Значило это высказывание: иди и молись Преподобному князю Даниилу!
Мил вышел, приложился к большому образу Пресвятой Богородицы Донской. Но молитва оборвалась так же скоро и неожиданно, как и началась. Мила окликнули. Алексей – чтец из храма, где служит отец Игнатий.
Алешу не заметить было невозможно. Он мог показаться актером, играющим в историческом фильме из времен Ивана Грозного. Не то, чтобы высокий, не то, чтобы худой, но какой-то жилистый, мускулистый, смуглый. Бледноватое лицо, чистое, ясное, окружено было слегка вьющимися волосами, из-под которых внимательно смотрели черные глаза. Бороденка торчала лопаткой, вперед, и при разговоре вздрагивала. Отличительной Лешиной чертой была общительность. Если ему хотелось поговорить, от разговора не отвертеться. Но в виду богослужения Алексей преображался. В алтаре, кроме необходимых ответов, от него не слышали ни слова. Больше всего на свете Алексей хотел быть священником.
Жена его, Анастасия, священническая дочь, только чуть улыбалась, слушая долгие послеобеденные тирады мужа о том, как славно быть священником. Прихожане любили и молились за него. У него одного как-то получалось управляться с бесчисленными записками от чающих молитвенной помощи отца Игнатия прихожан. Бывало, спросит, нужен ли ответ, и сам найдет, и передаст: прямо в руки. На праздники его забрасывали подарками. Леша брал все, но оставлял только то, что нужно его детям. Остальное расходилось. Куда и как – Бог знает. О том, что Леша воевал на Первой Чеченской, не знал никто.
Мил и Леша обнялись.
– Не вижу тебя у нас вот уж два дня! – покачал головой Алексей. Мил заметил, что в густом Лешином хвосте тонко блеснуло серебро. А ведь он, Мил, старше.
– Сегодня буду. Жену мою видишь?
– А как же! Нынче первой на исповедь прибежала. А я вот к Святейшему захотел, помолиться, попросить молитвенной помощи. Батюшка что-то вчера разбушевался. В час ночи, говорят, еле уложили. Когда отец Игнатий не спокоен, хорошего не жди. Сегодня я исповедовался. Так он на меня нашипел, а от самого корвалолом несет. У него такое бывает. Ходит по алтарю, или по трапезе, вроде спокоен. И вдруг как закричит, едва ли не в полный голос: Господи, помилуй! И снова ходит спокойно. Так, время от времени, и кричит. Я-то не помню, но, говорят, так было, когда детей хоронил. И у меня на душе смуток. И Настя приболела. Все одно к одному.
Икона Божией Матери «Донская». Лицевая сторона. 1392
Мил насторожился.
– А ты все ж таки приходи. Чтой-то я тебя у нас не видел. Пост Великий, а ты невесть где ходишь.
Огненное весеннее небо закипало крупными плотными облаками. Широкий ветер стлался по всей округе, захватывая множество маленьких строений и надстроечек, пестрых, унылых, жалобных. Ветер шел, захватывая знакомые до сновидения московские пейзажики, от которых, кажется, никуда не деться. Так дано человеку. Москва, дом, море житейское. И за все – слава Богу.
* * *
Со Стешей продолжало твориться что-то непонятное. То есть понятное, но повода не было. И частая перемена настроений, и обильные слезы были тогда, в той жизни. До покаяния.
Перед сном, на третий день Поста Стеше вспомнился Рем. Тонкий, смуглый, в белом свитере, с цепочкой нательного креста в вырезе. Каким она видела его при расставании. Другим его вспомнить просто не могла.
Тициан. Кающаяся Мария Магдалина. XVI в.
И частая перемена настроений, и обильные слезы были тогда, в той жизни. До покаяния
Рема Стеша не видела несколько лет. Сожгла все фотографии и вещи, так или иначе напоминающие о нем. Раздала всю одежду и обувь, которые напоминали о Реме. Больше: она сумела вытравить и привычку вспоминать о нем, как о знакомом. Правда-правда. Такая победа стоила многих бессонных ночей и слезных исповедей. Тяжелее всего было победить именно привычку. Просто перестать здороваться с мыслями о некогда любимом человеке. Рема Стеша любила. И не просто любила. Обожала. Как некое божество.
Связывало их только мучительное. То, что Рем – молодой, но внезапно ставший известным режиссер. То, что он довольствовался Стешей. Девушкой, не обладавшей подходящим для бурной жизни нравом. Рем не мог без Стеши. Долгие месяцы она кормила его и давала деньги на такси. Он вел обычную в таких случаях двойную политику: сначала объяснял, что Стеша ничего не значит как личность, а после скандала довольно ловко заигрывал и давал понять, что, кроме него, она никому не нужна.
Они расстались, как только у Рема появились деньги. Разрыв оказался острым и резким. Стеша, осиротев, поначалу звонила Рему. А тот сидел в гостях у приятеля и чувствовал себя героем. Рем заявлял, что учится быть циничным и продажным. К тому же начал спиваться. Поначалу весело, хвастаясь, что в любой момент сможет победить зелье.
Следующей после разрыва со Стешей весной, когда Стеша еще надеялась вернуть его, Рем добился благосклонности тридцатилетней девственницы Лены, из случайных знакомых жены приятеля его приятеля, и переехал жить к ней. Семья оказалась простая. На Рема смотрели как на явление из высшего мира.
Стеше вспомнились не те дни, когда она уже не слышала от Рема ни одного доброго слова. Вспомнились дни совсем другие. Самое начало их романа.
Рем ходил в церковь. И водил с собой Стешу. Объяснял ей, как себя вести в храме и какие бывают церковные праздники. На исповедь ходил редко, но очень старался к ней подготовиться. Говорил, что ему особенно нужно воцерковление, потому что можно привыкнуть распоряжаться людьми, как неким материалом. И только Спаситель может направить его действия так, как нужно. В памяти вдруг воспрянули изумрудно-тяжелые массы листьев и до обморока глубокое безоблачное майское небо. И счастливый Рем. Желтые длинные глаза, холеная кожа и всегда светлая одежда. Стеша стирала ее вручную, даже с любовью. Словно бы одежда была частью Рема. На солнце его жгучие волосы вспыхивали красным. Глубокий тихий голос взволнованно говорил о чем-то великом, превосходящем разум. И Стеша верила Рему.
Стеша не была наивной простушкой. В ней было скрыто острие, и тот, кто пытался обмануть Стешу, через короткое время напарывался на свои собственные ловушки.
В.И. Суриков. Искушение Христа. 1872.
Не то было с Ремом. Через пару месяцев Стеша ощутила в себе ранее не знакомую раздвоенность. Одна ее часть ненавидела Рема. Это передавалось и телу. При его появлении руки начинали трястись, словно у наркоманки, появлялась лихорадка, и так далее. Другая часть ревниво оберегала образ возлюбленного и заставляла идти на жертвы. Стеша не примирилась бы с изменами, и Рем знал за ней такую черту. Иногда обзывал ее гадко. Но, пока денег не было, держался Стеши и, кажется, ни разу не изменил. Хотя в творческом процессе мог позволить себе жесты самые рискованные. Но Стеша ни одной репетиции Рема не видела.
Стеша вспомнила, как на крыльце известного клуба скандалила дама, в оборках из черного синтетического газа. Она тыкала фильтром сигареты, измазанным дорогой, но неряшливо положенной помадой в хиппового вида молодую поэтессу, а у той сводил половину лица тик. Поэтесса прихлебывала из банки очаковский сидр. Как слышала Стеша, скандалили из-за модного поэта, которому подвыпивший почитатель подарил недавно дорогой компьютер. Дама была прошлой подругой, а поэтесса – новой. Даме было за сорок, а поэтессе – лет двадцать.
Рем, помнится, сказал дамам словечко милое и совсем не злое. Потом оба сбежали, не дождавшись конца вечера. Наутро пошел снег. Густой, сильный, теплый. Рем сидел на постели, а Стеша, в хлопковой рубашке с шелковыми кружевами, доставшейся ей от прабабушки, весело болтала ногами и улыбалась. Кружева были из настоящего шелка. Она чувствовала, что выглядит особенно хорошо. Чувствовала: Рем жалеет, что расстается с ней.
Стеша не стала гостя задерживать. Рем топтался на пороге, ожидая, когда Стеша подойдет закрыть дверь. Она подошла и вытолкнула его. И тихонько щелкнула замком.
Развязка произошла так быстро, что в памяти осталось одно кровавое месиво. Ее проводил домой, от самых дверей офиса, Лева, совсем юный и развязный. Стеша взяла бутылку хорошего вина, а потом они оба, трезвые, идут в магазин, покупают продукты, и что-то вкусное пытаются приготовить всю ночь. Утром она предлагает ему последние деньги. А он говорит:
– Не стоит. Я сыт и доволен. Ты такая интересная!
– Возьми замуж.
– Лет пять назад взял бы.
После ухода Левы со Стешей случилось что-то невообразимое. Такого не было даже во время первых ссор с Ремом. Стеша словно бы смотрела в лицо смерти.
Она проснулась в поту, сердце колотилось. В висках оставался вчерашний жар. Рем, один, на белой постели в пятнах крови.
Стеша умылась, привела себя в порядок и поспешила на работу. Дорога утратила свою прежнюю привлекательность и плыла перед глазами смутной рекой. Вот и Площадь Революции. Бесконечно длинный эскалатор. Навстречу, по другой линии, спускается он. Рем! В метро? Не на автомобиле? Дорогая одежда из натуральной кожи. Клочья бесцветных волос. Сморщенная улыбка.
Первым побуждением Стеши было спрятаться, чтобы он ее не заметил. Но Рем заметил. Сбежал вниз по эскалатору и побежал вверх. Догнал. Взял под руку и заворковал слова приветствия. Оба вышли в город.
– Я хочу тебя проводить.
Стеша опустила глаза. На груди волновались завитки дорогой белоснежной шерсти, выбившиеся из-под черной кожи короткого плаща. Во всем ее существе словно бы отразилось грозное предупреждение. Неожиданно вспомнился отец Игнатий и его шепот: Стешенька, я же о вас всех забочусь.
– Не стоит… провожать.
Стеша не удержалась и посмотрела на Рема. Он изменился и не изменился. В нем появилась мрачноватая тень, какое-то сходство с оборотнем. Оборотень и есть. И она повторила:
– Не стоит. Я не знакомлюсь на улице.
И побежала, что было сил. Быстрее, еще быстрее. И, ускоряя шаг, переходя на бег, что позволяли ее мягкие туфли, наподобие спортивных, закричала:
– Будь проклята та сила, которая заставляла меня думать, что я ему принадлежу! Я свободна! Я свободна!
Зверь Апокалипсиса. Иллюстрация к книге «История мировых государств в Библейском Пророчестве». Москва, 1919. Фото Mikhail Teppone.
Он изменился и не изменился. В нем появилась мрачноватая тень, какое-то сходство с оборотнем
Вдруг завизжал трамвай: врезался в «Волгу», соскочили рога. Слева. Справа подошел вонючий до безобразия бомж и громко высказался. Потом словно бы намеренно толкнул кого-то. И когда он подошел? Стеша оглянулась: Рема не было рядом. Конечно, он не стал бы догонять ее. Он ведь трус.
На работе Стеша выпила кофе. В первые дни поста она принимала из пищи только горячую воду и хлеб. Или, если взять отгулы не получалось, напитки без сахара, хлеб и размоченные в воде сухофрукты. Заменяли дорогие сухофрукты – залитые кипятком яблоки. Иногда Стеша прибавляла в блюдо немножко сухариков. Сотрудницы улыбались и понимающе кивали: диета красоты. Стеша поддакивала им: духовной.
Нечаянная встреча кровью колотилась в висках. Простыла? Не надо бы. Мысли тонули в странном ознобе и вспышках жара. Губы немели, и Стеша едва удержалась, чтобы в обеденный перерыв не купить цветную помаду: лицо в зеркале было серо-синим. Однако, после обеденного кофе и яблок в кипятке с добавлением лимона и меда, краски Стешину лицу вернулись. Главный бухгалтер весело заметила:
– Стеша, диета тебе явно на пользу.
Рабочий день заканчивался. Стеша подумывала, как ей поскорее сдать свои бесконечные таблицы. В предвкушении богослужения усиленно занялась молитвой и словно бы представила себя в храме. Пока не услышала голос секретарши:
– Стеша, подойди к факсу.
Забулькал звонок. Стеша сняла трубку. Из трубки донесся забытый голос писательницы, с которой когда-то жил Рем. И как она узнала номер?
– Слушай, ты. Что ты ему сказала?
Стеша не поняла.
– Кому? Что сказала?
– Она не знает!
– Что не знает?
– Брось придуриваться! Рем повесился. Сегодня в три часа. У меня дома.
Стеша села на стул.
– Почему у тебя? Он же вроде у Лены жил!
– Семь лет назад! Они до сих пор судятся за квартиру.
– Но как ты мой номер нашла?
– Рем сам написал его. И твое имя. Значит, у вас что-то было.
– Да, я встретила его по пути на работу. Опаздывала и не смогла с ним поговорить.
– Ты врешь! Он просил помощи, и ты предала его! Вот они, христиане!
Писательница еще что-то хотела сказать, но Стеша бросила трубку. И сказала секретарю:
– Это жена моего бывшего. Если попытается позвонить снова, меня нет.
Секретарша понимающе кивнула.
Стеша сжала руками виски: да, неслабая все же простуда. Голова не болела. Только подозрительная дрожь в коленках.
Значит, все Ремово состояние достанется его жене. Потому писательница и звонит. Лене достанется все: черновики Рема, его связи, костюмы. И кредиты. Хотя кредиты он уж давно выплатил. Какая пурга! Непонятно одно: почему он повесился? Выпил что-то не то? И зачем оставил ее рабочий номер в своей странной записке?
Прибежав в храм, Стеша стала пробиваться к солее, в надежде кому-либо из алтарников вручить записку для отца Игнатия. Но тот сам выбежал навстречу, словно не видя ее. Едва не сбил Стешу с ног. Справа от него шла та самая девушка, которая так нравилась Стеше. Только теперь ее лицо было искажено, волосы разметались и на щегольской голубой болоньевой шубке виднелись пятна. Стеша, от неожиданной слабости, села на пол. Потемнело в глазах, звуки в ушах закипели. Очнулась на лавочке, у Мыкалки на коленях. Он тихонько напевал: баю, баю! А у самого по длинным щекам текли слезы.
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Повешение Иуды. Гравюра. XIX в.
Стеша видела, как Мыкалка плакал. Ей было хорошо и спокойно, как никогда в жизни. Но было и жалко Мыкалкиных слез. Будто ей самой уже рассказали нечто ужасное, и оно уже позади, уже совершилось. А вот Мыкалка только догадывается. Стеша чуть не рассмеялась. И где! В храме. Вдруг она будто опомнилась, и, вздохнув, успокоилась. Однако хотелось сделать Мыкалке что-то приятное и утешительное. Стеша чуть приподняла руку и начертала на груди Мыкалки крестное знамение. Затем, будто снова забывшись, тихо сказала:
– Благодарю! Я люблю вас.
Икона Божией Матери «Знамение». XIX в.
Стешина обморока почти никто не заметил: во время поста и не такое бывает. Но Вета, возвратившись в храм, пожалела лежащую на скамейке девушку и принесла святой воды.
* * *
Утренняя исповедь закончилась для Веты полным молчанием со стороны отца Игнатия. Вета, стоявшая в очереди первой, простояла первой чуть не всю литургию. Едва не опоздала на работу. И только напоследок отец Игнатий пригласил ее, словно бы нехотя. На Ветины вопросы только качал головой.
В середине дня Вета почувствовала недомогание и отпросилась с работы. Вовремя. На столе сиротливо лежат остатки салата из квашеной капусты с рисом и чесноком, недоеденного Милом, и снова – недоуменный окурок. Едва успела Вета вымыть и вытереть насухо посуду – звонок.
– Ты, что ли, дома? – взвыла в трубку Ирина Георгиевна.
– Да, голубчик, – как можно более мягко ответила Вета. – Сейчас ухожу.
Но мама уже бросила трубку.
Поверх плиты красовалась новенькая белая кастрюля с изображением корзины, полной ягод земляники. Аппетитную землянику дополнял синенький букет ромашек. В кастрюле – безвозвратно сгоревшие остатки компота.
Первым на Алексеевском подворье Вете встретился отец Игнатий. Довольно сильно стукнул ее по голове и отправил обратно: иди, молись, мамаша!
После службы не решилась ехать домой. Вдруг подошла Светик и спросила:
– Ну что, идешь ко мне ночевать?
Джеймс Тиссо. Молитва Господня. Конец XIX в.
Что было потом, Вета помнила, но как-то отстраненно. Помнила, как ехали к Светику домой, как та растирала ей шею и затылок камфарой. Помнила и резкий камфарный запах. Пришла в себя Вета уже сидя за столом перед чашкой слабого, но сладкого чая. Светик сидела напротив и хитро на нее поглядывала.
– Огурца соленого хочешь?
Вета встрепенулась. Соленый огурец показался невесть, каким деликатесом.
– Хочу.
Затем, сообразив, что хочется сразу за нескольких человек, Вета спросила уже смелее, почти требуя лакомого блюда:
– А капуста квашеная есть?
Светик снова блеснула хитрющей улыбкой.
– И капуста есть. Положить?
Вета обрадовалась
– Положи, ради Бога, – затем стыдливо спросила: – Молились мы?
– Ты – нет.
– Помолишься со мной?
– Помолимся.