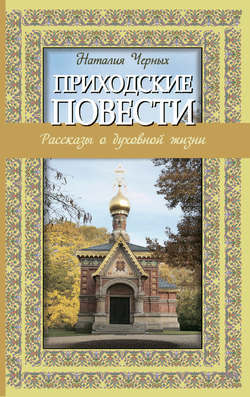Читать книгу Приходские повести: рассказы о духовной жизни - Наталия Черных - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Великая Суббота. Хроника четырех дней
Глава 2. День второй
ОглавлениеКупола православной церкви. Фото А. Крючкова.
Великую Субботу Стеша отмечала как самый большой из церковных праздников, как Пасху. И не могла объяснить, почему.
Ощущение чуда начиналось с вечера пятницы за чтением семнадцатой кафизмы. Читающие Псалтирь священники виделись Ангельскими Силами. Свечи в руках оживали. Темно-алая Плащаница покоилась среди вороха роз и лилий, такая доступная и необыкновенно далекая. Стеша всегда трепетала, прикасаясь к ней: а вдруг не достанет? Чтение Псалтири струилось долго, словно бы все обозримое в человеческой истории время. Стеша то засыпала, то просыпалась, незримо носимая негромким псаломским пением. Потом, уже при «Непорочных» тропарях, показывалась сквозь ароматный дым серебристая тень отца Игнатия: начиналось каждение.
Евангелие читалось в полной тишине. Потом – отец Игнатий, в виду продолжительности службы, долгого слова не говорил – начиналось пение канона. Волною морскою. Едва лишь Стеша слышала первый ирмос, как происходило нечто. Что разрешалось потом, в мелодичном реве Трисвятого при выносе Плашаницы. Смерть упразднилась. Время истекло. Не было ни грусти, ни тоски, а только мощное чувство свободы, которое распространялось на весь мир из неведомых обычным чувствам источников.
Плащаница чуть покачивалась на руках, схваченных белыми поручами. Грозная, словно бы живая. Тут к горлу подступали рыдания. Слезы внезапно набегали, ливнем, хлестали из глаз… Но потом как-то неведомо легко исчезали, оставляя необыкновенно ясное чувство ума.
Никогда Стеша так хорошо не чувствовала себя, как на Страстной Седмице. Откуда только брались силы? Но еще лучше, чем на Страстной, Стеша чувствовала себя на литургии в Великую Субботу. Пасху она встречала уже как бы другим человеком.
Еще не протянулись утомительные вереницы людей с куличами и яйцами, еще в храме только светлые и родные лица. На утреннем богослужении Великой Субботы праздных людей не так много. Светлые тона одежд, еще не притершихся в предпасхальной суете. Редкая красота убранств на кивотах, пена белых цветов: роз, гвоздик, хризантем. Сверкание белых, благодатно белых облачений священников и диаконов: искры, молнии. Мирное изобилие крупных бутонов, перемешанных с мелкими соцветиями. Вокруг плащаницы – ветви пальмы с зелеными лезвиями листьев. Все дышит раем.
Михаил Дамаскин. Небесная Литургия. Икона. XVI в.
Простучали клавиши серенькой клавиатуры (говорят, скоро на новую поменяют: белую), вспыхнули электрические облака с нелепо цветным окошком. Затем на чернильном фоне экрана возникла надпись, сообщающая о завершении работы новейшей счетной машинки. И рабочего дня тоже. Главбух, приятная дама, только кивнула, подкрашивая полные губы неяркой сочной помадой.
Выбежав из особнячка, Стеша решила поехать сразу в храм. Не получилось. Дорога на выходе из метро разделялась на две: к дому и к рынку. Сердце рванулось к дому: сделать глоточек горячего питья, положить сумку на полку в прихожей и налегке пойти к богослужению. Но вот ноги уже подходили к воротам рынка. Пока были деньги, нужно было их тратить.
Вбежав в квартиру с двумя (потому что рук две) сумками, Стеша поставила их в кухню. Отдышалась (выпить горячего не пришлось) и поспешила на службу.
Необходимо упомянуть об одном маленьком происшествии. Стеша, войдя в квартиру, плавно опустилась на пол. Села и задумалась, чуть не задремала тут же. Отчего это произошло, так и не поняла. Словно бы внезапно ослабли ноги. Голова кружилась, перед глазами летали белые и черные мухи. Стеша страха не чувствовала. Просто мало каши ела. Через некоторое время она встала сама, отнесла сумки на кухню и поспешила в храм.
Уцененные овощи и гречневая крупа остались покорно ждать хозяйку.
Ни кошки, ни собаки Стеша не завела. Хотя и подумывала о большой черной кошке: назову Багирой. Хомячков и морских свинок Стеша не воспринимала как кандидатов в соседи. Только кошку. Или кота.
Йозеф Антон Кох. Пейзаж с лазутчиками, возвращающимися из земли обетованной.1816
Рыночное настроение улетучилось при виде знакомых темно-синих куполов с потускневшими сусальными звездами. Вот бежевый Стешин палантин мелькнул уже за оградой. Вот маленькая фигурка открывает большую тяжелую дверь. На пороге храма немного задержалась, вздохнула:
– Всегда так! Сначала в магазин. Кесарю – кесарево.
Пыль отброшена.
* * *
Остатки весенних надежд, нежные и хрупкие, как слюдяные крылышки, разлетелись в разные стороны. Вета, выйдя из храма, домой ехать не захотела.
– Коза! – авторитетно высказалась Светик и топнула точеной ножкой. Светик постарше Веты года на три и особенно не стесняется в выражениях. Мил даже во второй вечер не появился в храме, а слушать высказывания Ирины Георгиевны у Веты духу не хватало. – Останешься у меня ночевать. Я тебя домой нынче не пущу.
Возражать Светику трудно.
Никто не сказал бы, глядя на Светика, что судьба у нее ядовитая. Первый ребенок умер, прожив три месяца, на руках. Единственная девочка страдала астмой, муж – тяжелой формой алкоголизма.
Начинала Светик приобщаться к церковным послушаниям за свечным ящиком. С намерением уйти в монастырь. Хоть в какой-нибудь, но только бы уйти. Однако отец Игнатий не благословлял. Тогда Светик наступала на него, рявкала и требовала, поскольку духовный отец, принять меры. Отец Игнатий бегал от Светика, прятался. Было странно видеть, как изящная кареглазая блондинка величественно движется навстречу измотанному священнику, а тот пятится обратно в храм. Бог миловал: Светик из прихода не ушла, а отец Игнатий наконец поставил ее старостой.
Должность старосты, именно в общинке отца Игнатия, казалось созданной для Светика. Она так и говорила: по молитвам батюшки во мне проснулись организаторские способности. Ее низкий, хорошо поставленный голос (за послушание несколько лет пела на клиросе) и строгая манера одеваться производили солидное впечатление. Изменить ее решение не мог и сам отец Игнатий.
– Отче, воля ваша. Я не думаю, что так и так будет полезно.
Управой на новую старосту была лишь матушка Ольга. Та, в случае конфронтации Светика с настоятелем, дерзновенно входила к отцу Игнатию в кабинет, в приемной которого стоял Светиков стол. Пронзительные глазки верно оценили диспозицию.
– Отче! Ваша галка снова денег просила?
Светик, вздохнув, изменяла свое решение на матушкино.
Прихожане православной церкви. Фото А. Петренко
Схимница Ольга почти безвылазно сидела на Алексеевском подворье, возможно, со времен Великой Отечественной войны, и умирать намеревалась тут же. Районная власть, меняясь, передавала ее как эстафету: мол, тяжелый случай. Лучше – миром.
Мыкалка Светика любил до самозабвения и часто подолгу пил у нее чай.
– Мама! – называл он Светика. Пожалуй, она была единственной, кого Мыкалка любил. Именно любил – хотя к каждому относился с уважением и трепетом.
Светик приглашения (переночевать у нее) более не повторяла. Винегрет все же нарезали, половину съели, затем напились чаю, и Светик проводила Вету до дверей.
– Если что, приходи. Поняла?
– Да, – тихо ответила Вета.
Решила идти домой.
Живо представились Вете кухонные постовые мелочи. Они словно бы звали к себе, ожидали Ветиного появления. Вроде бы и нет их, а как вспомнишь, так ладошки зачешутся. Свежие овощи, нарядная посуда, веселый запах чая. И щи по-монастырски.
* * *
Ирина Георгиевна вовсе не была неряхой и злобной старухой. Вета лучше, чем кто-либо, знала, сколько трогательных воспоминаний у матери. Даже запомнила несколько фрагментов. Вот один.
Серафимо-Дивеевский монастырь. Нижегородская область, Дивеево. Фото А. Одегова
– В Дивееве я оказалась давно, не помню, когда. Хотела там послушницей остаться. Сам монастырь плохо помню, помню только, что все время есть хотелось. И вот, как-то раз приехали мы, паломники, с Серафимова источника, и сидим, ждем, когда кормить нас будут. Все мокрые. Лето заканчивалось, прохладно на улице. И вот, смотрю я: монашенка связывает ниточками большие пучки укропа, петрушки, лука зеленого. Словом, всякой зелени. И опускает в чан, что ли, и кипяток. И тут одна паломница говорит: у меня немного муки есть. Монахиня ей: Слава Богу, давайте. Другая откликнулась: у меня гречка. Картофелина нашлась, и соль, и маслицем заправили. Такие щи вкусные были! Никогда в жизни так не ела. С тех пор так и готовлю: всего по щепотке. Выходят щи по-монастырски. Вкусные!
* * *
Понемногу домашнее настроение ушло. Мысли о Миле не давали покоя. Вета остановилась, прислонилась спиной к дереву и посмотрела в исчерна-синее небо, из которого воздушными потоками тек почти теплый, мирный снег. Ей был нужен Мил, а не семья. И, по большому счету, все равно, где он и что он. Все равно, с кем. Только бы приезжал. Вета еще несколько времени постояла под потоками великолепного снега, затем потихоньку пошла к храму. Там еще не закончили уборку. Да и отец Игнатий в первые дни поста исповедовал долго.
Исповедь закончилась, а уборка – еще нет. Охранник пустил Вету в такой поздний час: подумал, что ей назначено отцом Игнатием. К вечернему чаю.
Приходские души знали про вечерний чай и старались как-то украсить его: приносили домашнюю постную выпечку (например, вкуснейшее овсяное печенье с изюмом) или фрукты – что удавалось принести. После вечернего чая начиналась подготовка ко сну и келейная молитва.
И – куда денешься? – продолжался прием душ.
Девушки скорей-скорей домывали полы, чтобы пораньше приехать домой: из храма доносилось характерное громыхание ведер, жалобное хлюпанье воды и глуховатый постук швабры.
У входа в дом причта еще волновалась толпа, а отец Игнатий уже хлопнул дверью. Вета постояла, повздыхала, глядя на тепленькие ажурные окошки батюшкиной келейки, и направилась к храму.
По счастью, дверь на хоры была не заперта. Вета проникла в притвор и быстро поднялась по крутой винтовой лесенке. Полы на хорах оказались влажными и пахли странной смесью мыла и ладана. Значит, сюда больше не придут. В углу лежали ковры и стоял гардероб с облачениями. Положив земной поклон, помолившись особенно проникновенно, радостно, Вета юркнула в глубину гардероба и почти тут же заснула крепким, здоровым сном, положив под голову сумку.
Охранник обошел всю территорию и стал уже закрывать храм на ночь, не заметив ничего особенного, как вдруг перед ним словно из-под земли вырос отец настоятель в одной рясе и сказал:
– Валя, пойдем, посмотрим. В храме кто-то есть.
Батюшка обошел оба придела и, вроде бы успокоившись, вошел в алтарь. Задержался ненадолго в алтаре, включив одну лампочку. И, кажется, алтарь задрожал, попытался расправить царские врата, будто крылья. Но вдруг передумал, сложил их снова. Лампочка погасла. Отец Игнатий вышел из алтаря, будто куда-то торопясь, полетел к выходу. Дышал бурно, покашливал, будто чем захлебывался. Молитвой? Однако на середине храма остановился и отпрянул назад. Остановился, вытер платком похолодевший лоб. Затем снова вспыхнул, сделал новый круг по пределам храма. Никого! Однако Батюшка никак успокоиться не мог. Оба, охранник и отец Игнатий, снова вышли в притвор. Напротив входа, ведущего на правые хоры, Батюшка остановился и довольно долго стоял, вызвав недоумение охранника. Взойти на хоры почему-то передумал, хотя весь вид Батюшки показывал, что он очень хочет посмотреть, что же там делается.
Православная церковь. Зимний пейзаж. Автор фото неизвестен.
Вета еще несколько времени постояла под потоками великолепного снега, затем потихоньку пошла к храму
Вдруг снаружи затопали легкие шажки: вбежала матушка Люба за отцом Игнатием. Огромные сонные глаза под очками, седые космы из-под платка.
– Ты чего, отец?
Подошла просительно к охраннику.
– Валя, помоги мне его домой отвести.
Отец Игнатий сверкнул ясными глазами: не мешайте.
– Схаменись, Любонька. Там на хорах кто-то есть. Свой вроде. Ладно, утро вечера мудренее.
И сам, без посторонней помощи, заторопился в гостиницу. Но на полдороге вдруг резко поворотил назад и побежал изо всех сил в храм, к правым хорам. И снова резко остановился. Матушка и охранник едва успевали за ним.
– Открой мне хоры, Валя! Вот свеча, посвети.
Батюшка, не дожидаясь, пока сонный Валя закончит копаться в карманах, достал зажигалку, чиркнул огнивом, высекая искру на фитиль свечи. Свеча вспыхнула нехотя, огонек чуть замедлил на серединке фитиля. Однако и секунды не прошло, как пламя разгорелось. Батюшка поспешил вверх по лестнице. Войдя на хоры, снова остановился, замер. Постоял, раздумывая, и вдруг достал из кармана просфору. Положил ее на подставку для нот и так же скоро поспешил вниз по лестнице, на ходу бросив, как бы оправдываясь:
– Все-таки человек. Нужда может быть.
Матушка попыталась закутать отца Игнатия в свой сиреневый пуховый платок.
– Отец, ты что, голый совсем?
– Отнюдь, Любонька. Я лишь на секундочку вышел.
Матушке Любови никто ее седьмого десятка не дал бы. Прозрачные и глубокие глаза возвещали о хорошей погоде на душе, а густая волнистая седина, сплетенная в толстенную косу, не терпела ни заколок, ни ободков. Потому из-под платка всегда выбивались пересыпанные солью и пеплом пряди.
Царские врата иконостаса Троице-Сергиевой лавры. XV в. Дева Мария. Возможно, работа Андрея Рублева.
И, кажется, алтарь задрожал, попытался расправить царские врата, будто крылья
Лучшего специалиста по столповому пению Москва не знала.
Богослужебные просфоры. Фото Matti.
Батюшка поспешил вверх по лестнице, замер, постоял, и вдруг достал из кармана просфору
Детей у матушки и отца Игнатия было пятеро. И ни один не дожил до совершеннолетия. Родителям пришлось пережить всех своих детей.
Матушка, рыдая и страдая, все же укреплялась с годами и становилась мягче, умиленнее. Отец Игнатий – напротив. После похорон первой и старшей дочери Софочки он словно бы надломился. Софочка умерла в первый день Великого Поста. Отец Игнатий в это роковое число служил небольшую литию и никого не принимал, только пару человек на исповеди в храме. Не сказать, чтобы он озлобился или приуныл. Он и радостным-то в привычном понимании никогда не был. Просто вдруг, при каком-либо стечении обстоятельств, по всему его существу словно бы пробегала молния. В такие моменты отца Игнатия можно было огнем жечь или рубить топором – он ничего не почувствовал бы.
Из близких немногие научились замечать в отце Игнатии внезапную скорбную перемену. Тогда к нему было подходить опасно, а не то чтобы спрашивать. Он не повышал голоса, не употреблял резких слов, но суховатые односложные ответы казались страшнее смертного приговора. Хотя было замечено: если отец Игнатий в этом состоянии молится о ком-то или о каком-либо вопросе, разрешение наступает немедленно и с невероятной силой. Так, что вопрошавшие сами бывают в ужасе: мы и не надеялись!
Матушка Люба, невольная свидетельница почти всех находящих перемен, однажды не выдержала и спросила:
– Отец, ты о чем думаешь, если вообще думаешь?
На что Батюшка ответил будто издалека:
– Мне вот гвозди в руки и ноги не забивали. Однако и у меня свой крестик есть. Больно мне, а терпения нет. Но живой пока – сама видишь!
Родился отец Игнатий 19 мая. А в иерея рукоположили ровно на Крестовоздвижение. Когда и Софочка родилась.
На Радоницу Батюшка расцветал. Даже внешне хорошел. Походка становилась более уверенной. И шатался не так сильно, как обычно. Охотно бывал в гостях, беседовал. Светлое состояние продолжалось до Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Младший сын, Леша, умер 4 декабря.
Младенчик был невероятно красивый, умненький. И – такое чудо – казалось, уже знал, какая молитва именно к Пресвятой Богородице. Хлопал в ладоши и всячески показывал, что радуется. Матушка Люба говаривала:
– Леша выучил меня молиться Божией Матери.
Батюшка ответил будто издалека: «Мне вот гвозди в руки и ноги не забивали. Однако и у меня свой крестик есть»
Старший сын Коля умер в Рождественский Сочельник. Оказалось, самая трудная утрата: Коля прожил дольше всех. Некрасивый, медлительный, худющий, старший мальчик обладал невероятной физической силой и выносливостью. Поначалу его сверстники не любили. Но лет с пятнадцати в нем словно зажглось что-то: дети ходили за ним табуном. Батюшка с матушкой оставляли на его попечение дом и младших детей, не сомневаясь. Были уверены, что дети будут ухожены, а дом – в порядке. И точно: бывало, Николай даже кашу сварит. Лет с десяти отец Игнатий стал брать сына в алтарь. И не мог надивиться его поведению. Николая не было ни слышно, ни видно, но все послушания были исполнены. И – за два года – ни одного слова в алтаре. Если что хочет сказать – поклон. Мол, выйди, отец, дело есть.
– Рожденный священник, – сказал как-то отец Игнатий.
У Коли была одна слабость – петь. Голос у него был тихий, так себе. Но на даче или на море, куда отец Игнатий с семьей несколько раз выезжали, мальчик забрасывал все дела и уходил на целый день в лес или на берег – петь. Поначалу пел что-нибудь из известных опер или народные песни. Потом стал собирать редкие распевы. А потом стал петь что-то совсем свое, какие-то длинные узорные мелодии, без ритма. Словно теплый ветер звучит.
И.Я. Вишняков и др. Рождество Христово. 1755. Из Троице-Петровского собора
Тася и Костя, погодки, мальчик и девочка, умерли в один день – на Богоявление. Они держались вместе, и были внешне похожи.
– Неразлучники, – называла их матушка. Но сама знала, что Тася, Таисия, нравом посуровей, хотя и помладше. Девочка ростом повыше и пошире брата в плечах. Зато добряк Костя был великий искусник в домашних делах. Мог проводку починить и потолок побелить. Не боялся. Но больше всего любил сад. И всегда жалел: почему у нас нет своей дачи?
– Откуда ты знаешь, что нет, – шутил отец Игнатий, – Может, где и есть.
Когда пришли с похорон, Батюшка так и сказал:
– Костю на дачу проводили.
Все пять смертей произошли неестественно скоро – года за четыре. Первой – Софочка, на четырнадцатом году. Последним – Коля, которому едва исполнилось семнадцать. Матушке Любе они иногда снились, но она забывала сны. Оставалось лишь светлое впечатление. Из того, что запомнилось: Костя с лопатой. В саду. Софочка, с Лешей на коленях сидит в старом шезлонге. А Коля с Тасей несут ведро воды, и так странно Коля говорит: «Крещенская!» В саду – чуть не август месяц. Блеск розовых яблочных бочков, одуряющий запах меда.
* * *
Вете спалось так хорошо, как спится только после исповеди. Ни облачка, ни комарика-кошмарика. Свежая глубокая темнота. Вот только под утро Вета увидела отца Игнатия. Он стоял в пустом храме перед солеей и пел: да исправится молитва моя. Обычное постовое песнопение.
В храме отовсюду свисали гирлянды живых цветов. Цветы словно бы росли в храме. Они тянулись изо всех углов, разные: кусты роз, всяких видов. Чайная, китайская, болгарская, французская. Маки доверчиво кивали легкими головками. Декоративные, в ажурной листве с широкими лепестками. Лиловые, с длинными стеблями. Белые, выглядывающие из глубокой темной зелени. Алые, молитвенно пламенеющие. Белесые кусты ромашек чередовались с нежной синевой васильков и светлым пурпуром полевых гвоздик. Мальвы покачивали шелковыми соцветиями, передавая весточку гладиолусам всех оттенков. Хмель и вьюны взбирались по кивотам, увлекая за собою солнечные головки золотого шара, дурманящие сочные лепестки высоких лилий, дружеские огоньки георгинов, разноцветные иголочки астр и живые облака хризантем. Словом, Вета увидела все цветы, какие только можно вообразить в нашей полосе, кроме тюльпанов. Но почему же тюльпанов нет? И тут же, во сне, вспомнила: отец Игнатий тюльпаны не любит. Как, впрочем, и она. Цветы без запаха, без особенной, свойственной такому чудесному Божьему творению, стыдливости, цветы без тайны. Но, может быть, она ошибается.
Отец Игнатий пел простым распевом, но протяжно, долго. Казалось, не дослушать до конца: не хватит терпения. Голос струился необыкновенно легким, звонким потоком. Положенные поклоны совершались, будто, сами собой. Не верилось, что кладет их старик.
Силуэт храма Христа Спасителя. Москва
Вета мучительно задумалась: где ранее она слышала такое чудесное пение? Потом вспомнила: так пел молодой оптинский монашек на каком-то духовном концерте. Пел с закрытыми очами, ему подпевали в канон школьники. А он, забывшись, сделал поклон. И некоторые слушатели, не так мало, тоже встали и положили великий поклон. Как полагается.
Голос отца Игнатия словно бы шел строго вверх, вертикально, не растекаясь. И от этого казался тихим. Но каждый стих тянулся настолько долго, что, казалось, прошла жизнь. И Вета уже не чаяла сил дожить до конца песнопения.
Адольф Вильям Бугро. Ангельское пение. 1881.
Вета задумалась: где ранее она слышала такое чудесное пение?
Сон оборвался внезапно и по смешной причине. Вета накануне довольно много выпила чаю в гостях у Светика, и теперь вскочила, чтобы скорее добежать в нужник. Внутренности казались разбухшими и тяжелыми.
Дверь на хоры оказалась заперта. Сев рядом с дверью, Вета вздохнула: попалась в собственную ловушку. Помолившись, Вета словно бы почувствовала облегчение, но оно показалось таким обманчивым, недолгим! Из купола лился утренний свет – значит, скоро придут. Дотерпеть бы.
Увидела просфорку не сразу, но когда увидела, то сразу же взяла ее и, едва помолившись, съела. Словно бы для нее было положено. Просфорка была сухая и хрустела в устах. Надо запить святой водой, которая находилась в бутыли внизу. А вниз не сойдешь пока.
Хотя нет, сойдешь. Вета прислушалась. Внизу мерцали голоса, и один Вета уже узнала – Леша, чтец. Сняв ботинки, Вета стала спускаться по лестнице. Дверь в храм открыли. Сразу за дверью стоял Леша и с кем-то разговаривал.
– Хоть бы ушли! Ну, отошли бы на секундочку! Господи, не допусти меня, пошли ангела, соблюди меня!
А Леша все разговаривал. Вета почувствовала, как сознание уплывает от невыносимого напряжения. И вдруг перестала мучиться. Словно бы и не было ничего. Но выйти все же надо. Держа в руках ботинки, она еще несколько недолгих минут постояла за дверью, и потом выскользнула вон – в притвор. Из притвора – на улицу; едва успела всунуть ноги в обувь. Обморока с ней не случилось, и ничего страшного не произошло. Хотя еще чуть, и могло бы.
Умывалась она долго – привычка. В походных условиях приходского нужника пришлось обрадоваться и теплой воде. По счастью, в сумке оказались какие-то платки и салфетки. Разжевала зубочистку, поковыряла ею в зубах, намазала лицо кремом для рук, тщательно расчесалась, почистила пальто и беретик, обтерла бумагой ботинки и направилась в храм.
Тихвинская икона Божией Матери. XV–XVI вв. Фото В. Муратова.
Тихвинская икона Божией Матери. XV–XVI вв.
Сонные церковницы снимали покрывала с ящика. Леша забирался по стремянке, чтобы зажечь лампаду перед Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы. Словом, все, как обычно. Справа у колонны стоял аналой – значит, будет исповедь. Возле аналоя уже образовался хвост из прихожан. Две бабульки выясняли, которая первая пойдет: обе приехали на первой электричке. Вета к исповеди особенно не рвалась, хотя и намеревалась исповедоваться. Но тут на нее словно бы что-то нашло. Она сказала, уверенно подойдя к старухам:
– А я тут ночевала!
И удивилась: старухи посторонились, чтобы ее пропустить.