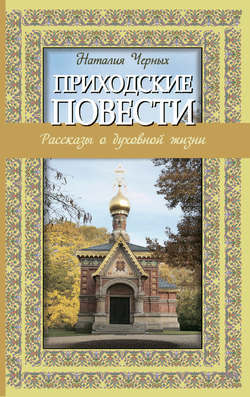Читать книгу Приходские повести: рассказы о духовной жизни - Наталия Черных - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Великая Суббота. Хроника четырех дней
Глава 4. День четвертый
ОглавлениеВведенский собор Введенской островной женской пустыни. Покров, Владимирская область. Автор фото неизвестен.
Вечер за окном принес невероятной красоты синие тени, какие бывают только в марте. В такой вечер хорошо идти домой или в гости, и, уже подходя к дому, посмотреть на знакомое окошко, сияющее где-то в холодной арматуре этажей лучше, чем луна или звезда. Вот она, родная, вожделенная галактика. Небесная.
Вете спалось замечательно и тихо, хотя кухонный уголок на спальное место никак не походил. Господи, не лиши мене небесных твоих благ!
Мыкалка пришел, по обыкновению, поздновато. Пил чай, рассказывал что-то из приходской жизни. Потом спросил:
– Мамочка, не поведал я тебе, как стал молящимся?
Мыкалка просто так свою жизнь не рассказывал, всегда как будто к чему-то старался приготовить.
– Нет.
Седая бороденка довольно распушилась.
– О! Слушай. Это моя тайна. Но – Бог весть – не зря расскажу.
В то время я был молод. Хоть и крещен в детстве, полон недоверия. Думал, что Христос – это образ. И вот однажды прочитал у кого-то из святых отцов, наших, кажется, у Святителя Игнатия Брянчанинова, что душа, вставшая на путь послушания Христу, довольно скоро узнает свою окаянную нищету и начинает нуждаться, очень живо нуждаться, в личном Спасителе. Слова эти запали мне глубоко, и я все думал, как это на самом-то деле происходит.
Весной 1961 шел с работы. Подвизался слесарем, и был хорошим слесарем. Вечерняя служба в храме, мимо которого я проходил, еще не закончилась. Помолившись, вошел в храм. Народу оказалось немного. Дни – самые восхитительные, Пасха. Очнулся, а уже крест вынесли. Облобызав святой крест и выслушав напутствие, я вышел. Но вдруг меня окликнули. Молодой монах, совсем мальчик. Подошел и, опустив очи, попросился ночевать. Сослался на то, что по данному ему в обители адресу никого не нашел.
В храме, где мы с ним встретились, находилась весьма почитаемая икона Пресвятой Богородицы Казанской, от которой и я, грешный, много видел милостей. Я принял прошение монаха как повеление Самой Пречистой Девы.
Жил я барином, в золотом одиночестве. В отдельной квартире, хотя и в подвале. Весною и летом меня заливало, так что порой я сам казался себе немножко пророком в рове блата. Но Бог миловал: условия были не худшие. Из соседей не осталось никого, из-за означенных потопов. Я был весьма этому рад: мои молитвенные упражнения можно было не так сильно скрывать.
Одет монашек был в длинный легкий плащ и шапочку, так что внешне из толпы не выделялся. По пути к моему дому и десяти слов не сказали, а я уж привязался к нему, как к родному. И не знал, как именовать его: отче или брате. Осанка выдавала священника, хотя на вид нет и двадцати лет.
Дошли до дома. Монах перекрестил двор, едва подняв руку. Подошли к моему подъезду: тоже осенил крестом. И дверь мою. Когда вошли, гость мой, не снимая одежки, умиленно прочитал «Ангел вопияше» и «Светися», и трижды «Христос воскресе». Да так умиленно, что я заплакал.
Пока разобрали вещи, сделалось темновато: время молитвы и сна. Я показал гостю на свою постель: мол, будешь здесь спать. Стал собирать ужин. Как сейчас помню, был у меня супец с горбушей и печеная в масле картошка. Перед трапезой молились, и я не мог надивиться, как хорошо молится мой гость. Век бы слушал, и о еде забыл. За трапезой молчали, как в святой обители. По трапезе снова молились, и то же: дивно духу, и телу никакой тяжести. Поклонившись, гость удалился в угол под иконами для своего монашеского дела. И я ему вослед принялся за молитвы, на сон грядущим.
Ночью раздались стуки в окно, едва не под потолком. Хотя я довольно густо замотал его проволокой, все равно боязно. Гляжу: пьяные! Еще не закончился гражданский праздник; народ гульбанил. Молодые парнишки стучат, требуют бутылку. Стучат изо всех сил. Я им: уходите! И шваброй грожу. А они смеются и еще сильнее стучат. Ругаются так, что страшно слышать. Гость мой проснулся, перекрестился, положил малый поклон, и – ко мне.
– Давай, дядя, молиться.
Воскресший Христос. Фреска. Фото Р. Седмаковой.
В то время я был молод. Хоть и крещен в детстве, полон недоверия. Думал, что Христос – это образ
Я в смущении: как молиться, когда окно выбивают? А он свое: молиться, швабра потом. Я едва на него не накричал: мол, отойди лучше, и сам молись. А гость мой – снова: давай молиться! Ребятки, гляжу, уже ножик достали: проволоку резать. Разозлились не на шутку.
Подъезд наш на ночь запирался. Однако вижу: двое отошли. Стали двери парадного выбивать. Совсем я приуныл. А те, что возле окна, водочкой разогрелись, и по новой с меня бутылку требуют. Нету ничего, говорю им; идите! Шваброй грожу. Гогочут, по стеклу ногами бьют. Проволока еще выдерживала. Стекло органическое, помню, гудит как барабан.
Воскресение Христово. Православная икона. XIX в.
Гость мой встал напротив окна, перекрестился на иконы, осенил крестным знамением окно и запел во весь голос: «Да воскреснет Бог!» Я нехотя ему поддакнул: «И расточатся врази его». Ребятки поначалу притихли, а потом словно какой дух в них вселился: стали едва ли не грудями на проволоку бросаться и такое кричать, что и в аду, наверно, не услышишь. А мы с гостем поем: «Пасха священная нам днесь показася!» И что чудно: весь мой страх куда-то делся. Сколько раз потом я пробовал так же вести себя – не выходило. Слаб очень. А тогда все в какую-то минуту изменилось.
Только запели мы: «воскресения день!», ребятки все как один, взревели, и с воплями ужаса побежали прочь. Один только остался. Сидит возле окна, как прилип. И глаза трет. Гость говорит: мол, приведи мне его. Я возражать намерился, но монах так на меня посмотрел, что я не то что пошел – побежал. Подхожу к парнишке – сидит. Белобрысый, глупенький.
И кричит что есть мочи:
– Не подходи! Ослеп я! Больно мне!
Гляжу в окно, а монах мне рукой машет: мол, веди его. Ладно. Помолившись, взял я парнишку за руку и привел в дом. Дверь в подъезд запер аж на два оборота. Монах спрашивает шпаненка: мол, что с тобой? Тот отвечает: молния. Ослеп совсем. Монах снова спрашивает: хочешь видеть? Шпаненок притих и робко так отвечает: хочу. Тогда монах велит святой воды принести. Я принес. Помолились, и монах полил немного шпаненку на голову и глаза слегка помазал крестообразно. Спрашивает:
– А теперь?
Тот головой мотает и глаза трет.
– Вижу, – говорит, – как раньше.
Так мы втроем и досыпали остаток ночи: монах, шпаненок и я. Утром я на работу заторопился, а монах, как сказал, в Даниловский. Только открыли монастырь. И шпаненка с собой увел. Снова я не мог надивиться: по виду субтильный, изнеможенный был гость мой. Но осанка и речь имели в себе что-то высоко благообразное. И все мнилось, что это Господь со мной и мою душу от неверия взыскивает. Я не спросил, из какого он монастыря, как святое имя. И не знал, как к нему обратиться: отче или брате. Только с тех пор я уж меньше думал на всякие зыбкие темы. И посмелее в вере стал.
Мыкалка вздохнул.
– Так-то вот, мамочка. По молодости много чудесного видел, хоть книгу пиши. А теперь все по-другому. И, знаешь, жалеется иногда, что той игры уж нет. Но – Бог весть – вера не знамениями питается, а сердцем.
Светик, наконец, закончила шитье и сказала:
– Готова постель, иди спать, Александр Васильевич.
Мыкалка повиновался. А хозяйка побрела в ванную: зубы почистить и ноги помыть. Не каждый день ноги помыть получалось.
Вете перед сном, после молитв на сон грядущим, вспомнился отец. Ее родной отец. Отец стоял в саду, на террасе дачного домика. Возле него поблескивало полное ведро; в ведре плескалась заманчиво чистая родниковая вода. Яблони роняли нежные пышные цветы, белые и розовые, прямо отцу на голову. Вот за шиворот цветок упал. В руках отец держал корзину с буханкой хлеба, прикрытой платком.
– Веточка! Езжай домой. Коля у меня там, внучек. Не оставляй внучка.
Данилов монастырь. Фото 1882 года
Умоляющий голос врезался в душу томительным острием. Вета заметалась. Во сне представились лязгающие рельсы, духота, озноб и боль во всем теле. Возможно, все это было и наяву.
– Ты что кричишь? – наклонилась над ней Светик. Потрогала рукой Ветин лоб. – У тебя жар. Простыла. Нынче сидишь дома и лечишься. Никакой службы. Если хочешь отцу Игнатию записку написать, пиши скорее. Я передам.
Но Вета заупрямилась.
– Я пойду. Я не больна. Мне на работу надо.
– Шустрая какая, – рявкнула Светик, – сиди дома! Я тебя не выпущу.
– А если скорая приедет, как я открою?
– Сама открою; только бы приехала.
Мыкалка еще спал, пристроив голову на кровать, стоя на коленях.
Светик сожалительно вскинула руки:
– Александр Васильевич, ты чего спишь раскорякой? Ложись нормально. Вета остается дома. Вдвоем вам веселее будет.
Но Мыкалка уже вскочил и заторопился.
– Мамочка, я не могу! Часы! Часы! – И направился в ванную с видом новобранца, которому предстоит первое в жизни учение.
* * *
Плавание – уговор. Единственный между Светиком и Семой, но ни разу не нарушенный. Если уходишь в запой, обязательно принеси Маше игрушку. Или одежду. Или сладость. Или книгу. Ну хоть что-нибудь. Как Сема держал слово, оставалось тайной для всех. Прежде всего – для Светика. Плавания делились на большие и маленькие. Вне плаваний Сема казался заботливым, открытым человеком. Его увлечением была мебель. Он и работал мебельщиком.
Сема тешил свое подмоченное хозяйское достоинство тем, что периодически, по надобности, производил в доме мебельный аврал. Но уязвить Светика все равно не получалось. Она только радовалась переменам и в такие дни кормила Сему особенно вкусными блюдами. В плавании Сема вспоминал:
– Нет, братан. А как готовит моя жена…
По выходе из запоя Сема, вымытый, причесанный, в хорошей одежде, но с зеленоватыми бланшами, приходил на исповедь. Хорошую одежду Светик прятала в своей комнате и запирала на ключ. В Семой же сделанном ларе. Отец Игнатий только головой качал: моряк, спички – бряк.
* * *
Вета осталась одна. На столе в клубах пара красовалась пол-литровая сувенирная чашка с чаем и медом. На коленях – открытый второй том Добротолюбия. Присмотревшись, Вета поняла, что в Семиной комнате не горит лампадка. Без маленького, но живого огонька – холодновато. К вопросу о душе и доме – сказала бы Светик. Бутыль с вазелиновым маслом стояла под полочкой: масла – добрая половина. Возле голубой чаши – кадильница-«звездочка», потемневшая и пахнущая ладаном. Фитиль лампадки тонкий, но из прочных нитей. Вета едва вытащила непослушный кончик толстой иглой, лежащей на нижней полочке. Спички тут же, и огарок, еще с Пасхи остался. Цвирк – и над маленькой красной свечой появилась горячая искорка. Робкий лепесток пламени затрепетал под слабой Ветиной ладошкой, рассеивая по комнате голубые брызги.
Свечи и лампада. Автор фото неизвестен.
Робкий лепесток пламени затрепетал под слабой Ветиной ладошкой…
Вета вернулась в постель, легла и заснула нечаянно.
В.М. Васнецов. Бог Саваоф. 1885–1893 гг.
И тогда Вета тихонько вскрикнула: «Господи, помилуй!»
Когда проснулась, взглянула на часы. До начала последнего богослужения с чтением Великого Канона оставалось три часа. Скорая не приехала. Телефон молчал. В висках, вместо изнурительного утреннего жара, струилась веселенькая прохлада, а лоб в поту. Словом, кризис миновал.
До начала богослужения остался час. Скорая помощь все не ехала. С крыши до самой земли, мимо Светиного кухонного окна, свисала длинная пожарная лестница. Вета была уверена: от ее присутствия сегодня в храме что-то зависит. Написав записку с кратким изложением событий, Вета сунула ее в карман пальто. Балкон был застеклен, однако боковая стена неплотно подходила к панели дома; щель и заставили стеллажом. Примерившись, Вета аккуратно начала составлять инструмент на пол. Освободив одну полку, поняла, что можно попробовать просунуться и так. С трудом, но можно. Главное, чтобы не подвели руки. Перекрестилась, перекрестила лаз и высунулась на улицу.
Какое-то мгновение Вета висела на руках и не чаяла удержаться. Но вдруг стопа, словно сама собой, вцепилась в спасительное железо. И вот уже обе ноги на ступенях лестницы. Лестница громыхала и раскачивалась; тело заносило.
В окне второго этажа мелькнула тень, и в Вету нацелились бесцветные старушечьи глаза. Испуг словно бы прибавил силы. Вета чуть не побежала вниз по витым ступеням. На первом этаже, по счастью, не было никого. Руки изнемогали; мизинцы отказывались впиваться в холодное железо. До земли лестница не доставала чуть больше метра. Вета уже приготовилась прыгать, но руки свело судорогой. Не разжать. И тогда Вета решила действовать верой. Тихонько вскрикнула: «Господи, помилуй!» И рука освободилась для крестного знамения. Вета перекрестилась и прыгнула. Она сильно ушиблась бы, но голова, заодно с сумкой, перевесила, и Вета приземлилась как кошка – на передние конечности, слегка завалившись на бок. Встала, отряхнулась и побежала к метро. Одна остановка, можно и пешком.
Еще на станции Вета заметила симпатичные группки: прихожане спешили в храм. Только бы в храме не повстречать Светика.
– Господи, – взывала Вета, – Ты веси, я только к Батюшке, только к Батюшке! Я виновата, но помилуй! Я вернусь!
Народу полно. К солее не пройти. Отец Игнатий уже в алтаре. Но Вета принялась потихоньку пробираться вперед, слегка тесня прихожан, поддерживая кого за локоток, кого – за плечи. И едва не наткнулась на Лешу, который таким же образом пробирался в алтарь.
Записку Леша взял, не говоря ни слова, и тут же исчез за спинами прихожан. Дело сделано. Вета начала пробираться к выходу. Но тут начали шестую песнь. Отец Ефрем. Его пышная грива отсвечивала золотом в зыбком свете свечей.
Вета находилась у свечного ящика, когда запели кондак: душе моя! Люди в храме преклонили колена. Не выйти. Вета встала на колени вместе со всеми, и вдруг – заплакала от сознания своего бессилия. Во всем. И в том, что на нее периодически «находит» чрезмерно решительное настроение.
Она не решилась вставать с колен, пока не встанут все. Но, когда встала, ее поймал за локоток Леша. Как он тут оказался?
– Дождись отца Игнатия у солеи. Он выйдет. Сказал: за послушание.
В глазах у Веты потемнело, и она не заметила, как с другой стороны к Леше подошла Светик и полными ужаса глазами взглянула на Вету. А та, словно бы забыв, где находится, опустилась на пол и заснула.
Мил, переходя на нужную линию метро, торопился. И успел в последний вагон поезда. И вдруг почувствовал, что должен ехать на Алексеевское подворье. Выйти на остановку раньше. Разметав пассажиров, Мил выскочил из вагона первым и, не зная почему, хорошим бегом помчался в сторону подворья.
Иконостас. Фото А. Мишукова.
Вета встала на колени вместе со всеми, и вдруг – заплакала от сознания своего бессилия
Перед храмом, возле лавочки, собралась толпа людей. Леша, Светик и еще кто-то. На лавочке – голубое пальто и знакомый беретик. Вета!
Светик метнулась навстречу.
– Езжай ко мне домой; она скорую утром вызвала. Вот ключи.
Мил повиновался было, но перед ним, в окружении прихожан и матушки Анны, возник отец настоятель. Мил замер, словно его ударили. Отец Игнатий пристально посмотрел на Мила, на Вету и сказал только:
– Ну что, Николай? Вон тебе машина.
И кивнул на матушку Анну. Монахиня встрепенулась:
– Синие «Жигули»! Несите скорее Вету.
Матушка Люба провела перед Ветиным носом ватой с аммиаком:
– Глаза открыла. На втором месяце такое бывает.
Отец Игнатий поддакнул:
– Квартиру обещали?
Мил потупился:
– Обещали.
– То-то.
Жилкомиссия нагрянула почти без предупреждения, да еще в день, когда неизвестно почему отключили горячую воду. Ирина Георгиевна, собравшаяся было в храм, только похлопывала себя по бедрам и кудахтала:
– Без креста, без молитвы!
Судьба дома решена. Комиссия – две симпатичные тетушки – особенно в состояние жилища не вникала. Походили по комнатам, задержались в совмещенном санузле, имевшим приятный вид, поскольку Мил сам поставил новый смеситель, а Вета сильно потратилась на разные корзины, шторки и зеркало. Вынесли готовое решение:
– Бабушка, выселяться будем. Месяца через два-три. Дом под снос.
Вету положили на заднее сидение, хотя она и сопротивлялась. В ней проснулась кокетка: не хотелось показаться мужу больной и беспомощной.
Около часу ночи вдруг объявился Мыкалка. бутылкой яблочного сока.
– Мамочка, не грусти. Смотри, что я вам принес!
Светик вспыхнула.
Мыкалке не поздоровилось бы, если бы вдруг Мил не вышел в уборную, впустив длинный луч света. Лучик упал, приковав Светиково внимание к приходскому листку, засунутому небрежно за зеркало. Виднелось только название: «слово о милосердии и молитве».
Светику пришла легкая мысль:
– Ты, Александр Васильевич, молиться пришел. Теперь тебе всю ночь спать не придется. Иди на кухню, поешь и чаю напейся.
Скорая приехала в начале второго. Врач оказалась крепкая, суховатая тетушка, в возрасте, лет за пятьдесят. В ее поведении и словах чувствовалось что-то военное. Мил спросил, не смущаясь:
– Вы не служили в военном госпитале?
Доктор довольно приветливо ответила:
– Да. В госпитале имени Бурденко.
Два или три вливания доктор сделала почти молниеносно. Пациентка, ощутив их, открыла глаза. Тускло мерцающие, внезапно выцветшие.
– Папа! – сказала Вета, – Николенька.
Доктор следила за пульсом, прикладывая длинные пальцы с круглыми ногтями то к шее слева, то к левому запястью, то к тонкой Ветиной щиколотке. Очень скоро нос у Веты порозовел.
Мыкалка спал, головой на кухонном столе. Вернее, на молитвослове. В конце полностью прочитанной Псалтири напечатан был канон на исход души от тела. Мыкалка заснул, не дочитав его.
* * *
Вечер казался Стеше необыкновенно жарким, наполненным призрачными, нереальными впечатлениями. Будто не с работы идет, а из театра. Господи, помилуй! И дома так пусто, будто никого там никогда более не будет.
Едва добравшись до дому, Стеша поняла, что сегодня на службу не пойдет. Хороша молитвенница! Съездила в Лавру, легкой одеждой пощеголять. Надо же хоть раз в году поболеть! Непривычным было только настроение. Чувство неотвратимо подступающей волны. Нельзя было сказать, хороша или плоха. Нельзя было сказать, откуда. Нельзя было сказать, нравится или пугает. Ничего нельзя было сказать. Ветер переменился.
Какой-то необъяснимый, огромный ветер.
Дыхание билось неровно, душными комками. После горячей ванны с морской солью и пихтовым маслом Стеша принялась за лекарства. Температура выше тридцати семи не поднималась, но самочувствие было на все сорок. Хотя и полегче, после ванны. Из кухонного стола был извлечен большой чайник с двумя ромашками на боку. Для трав. Травяная смесь подбиралась нехотя. Стеша села на стул, посмотрела на многочисленные картонки и набросала в чайник сразу несколько привычных средств: ромашка, календула, липовый цвет. Пока заливала кипяток, показалось, что прошло едва ли не полгода.
Не хотелось ни есть, ни пить. В холодильнике грустили фруктовый салатик и настоящее лобио, запах которого просочился даже в прихожую.
Потом время куда-то исчезло.
Когда пришла в себя, Стеша обнаружила, что сидит, раскачиваясь, на стуле, и поет какую-то грустную народную песню. Кажется, даже не русскую. Посмотрела на часы: сорок минут прошло. Чайник еще не выкипел, он тоненько посвистывал на маленьком огне. Пора пить настой. После первой чашки Стеша почувствовала жажду. Горячий напиток вливался внутрь словно бы сам собой. Стеша съела ложку меда и добавила кипятка в опустевший сосудик. Мед разошелся в груди ароматной гаммой, теплом летнего луга. Пожалуй, еще чашечку. Когда чайник опустел, она не заметила.
Троице-Сергиева лавра. Фото Э. Титова.
Едва добравшись до дому, Стеша поняла, что сегодня на службу не пойдет. Хороша молитвенница! Съездила в Лавру, легкой одеждой пощеголять!
Так Стеша просидела несколько часов. То смеялась, необыкновенно живо вспоминая какие-то забытые, казалось, картины своей жизни, то почти валилась, засыпая, на кухонный стол. Изредка просыпалась, набирала в чайник воды, ставила на огонь. И брела, держась за стенки, в уборную.
Наконец Стеша напилась чая.
Сполоснув чашку и, будто невесть какой труд подняла, посидев на табуретке, Стеша снова встала и направилась в комнату: спать. Еле добралась до кровати. Положение лежа оказалось гораздо сложнее. Если захочется в туалет, вставать придется долго. Стеша словно бы провалилась в доверчиво разобранную постель. Хотя не было ни перин, ни дорогих матрасов. Голова кружилась, и от этого во всем существе заиграло неуместное веселье. В какой-то момент спохватилась: на сон грядущим не прочитала. А если скорую придется вызывать? Все равно.
Корпус Александро-Невской Лавры. Фото В. Муратова.
Вспомнила Стеша, как монах в Александро-Невской лавре умолял ее не читать молитв наизусть и лежа. Это праздность, это не молитва!
Поначалу Стеша поддалась коварной привычке и, наложив под спину покрывал и подушек, начала читать молитвы, садясь при совершении крестного знамения и кланяясь, как могла. Потом вспомнила, как однажды в Александро-Невской лавре монах едва ли не со слезами умолял ее не читать молитв наизусть и лежа. Это праздность, это не молитва! Стеша подумала, что слово монаха надо исполнить, и, как есть, закутанная в одеяло, скатилась на половичок. Кое-как встала на коленки и легла животом на постель. Однако ноги и так не хотели держать ее тело. Стеша сползла на половичок полностью и вцепилась в книгу. Локти и грудь опирались на постель, а глаза внимательно следили за строками. Голоса уже слышно не было. Стеша приблизилась к седьмой молитве – по числу часов в сутках. Эту молитву она особенно любила и прибавляла после каждого: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! И далее, возвращаясь к словам молитвы. Такое увеличение казалось ей краткой передышкой. Она словно собиралась с силами для нового прошения.
Последние поклоны Стеша совершила кое-как, смешно корячась, и несколько раз больно ударилась головой о стальной каркас кровати. Но из молитв не пропустила ни одной. Одним из предметов ее легкого тщеславия было то, что она, несмотря на обстоятельства, вот уже несколько лет читает полное молитвенное правило. Кроме двух или трех, ведущих к смирению, исключений. Окончив молитву, Стеша еще несколько времени посидела, заставляя себя повторять Иисусово Имя. Потом скорее-скорее, как позволяли ноги и руки, вползла на кровать, укоряя себя:
– По магазинам и кофейням ходим. На работу ходим. По рынкам бегаем. Молиться не можем! Почему?
Забытье словно поджидало Стешу. Она увидела себя маленькой, летящей куда-то в непроглядную черную бездну, как Алиса в стране чудес. И почему-то рядом с ней оказался Рем, который тискает и бьет ее.
Видение рассыпалось внезапно. На место его пришел бушующий яблоневыми цветами весенний сад и отец Игнатий. Он махал кадилом и пел «Архангельский глас». Голос ширился слезно-тоскливой волной, как если прохладной ладошкой коснуться воспаленного лба. Стеша про себя не раз отмечала: Благовещение – праздник отца Игнатия. Ему и «там» на Благовещение служить. Что-то не передаваемое словами, но сильное было в том, как отец Игнатий пел «Архангельский глас». Тягуче, высоким переливчатым голосом. В интонации появлялось что-то отроческое, легкое. Старательно выводил каждую ноту. Пел очень долго, казалось: всю службу.
Стеша, вослед отцу Игнатию, запела: «Архангельский глас», вскинув руки. Она уже словно бы перешла границу. Она плескалась в новом, благоуханном воздухе, будто окруженная множеством крыльев, хотя вокруг нее были только полотнища постельного белья. Потом сад исчез, и Стеша затихла. Затихнув, стала мучительно долго вспоминать, когда же Благовещение приходилось на Великую Субботу. Неужели она уже ходила в храм к отцу Игнатию? Вспоминала и не могла вспомнить. Пока не наступила Великая Суббота.
Рододендрон и декортавная яблоня. Дендрарий Эллерхоп, Германия. Фото Hans-Dieter Warda.
Видение рассыпалось внезапно. На место его пришел бушующий яблоневыми цветами весенний сад
Народ выходил из храма и строился для крестного хода. Величественное, тягучее и гулкое молчание наполняло все вокруг, даже уста людей. Несколько приглашенных монахов с невыразимой молитвенной силой пели: «Святый Боже!», но пение их казалось лишь совершенным венцом молчания. Монахи шли, чтобы встать впереди собрания. Шаг – удар колокола. Встали. И вот, прямо над головами взлетела потертая зеленая хоругвь с изображением святого Алексия, Человека Божия, и, взлетев, заполонила собою небо, стала вместо небес. За первой хоругвью взлетели и другие: с одного смотрел образ Богоматери «Знамение», отливающий светлым атласом, а с другой – Спас Нерукотворный, Чьи Власы казались омоченными неведомой божественной влагой. Полотнища хоругвей волновались, и, кажется, волновалась глубочайшая подоплека мироздания, носящая на себе все сотворенное.
И.М. Прянишников. Крестный ход. 1893
Какой-то незнакомый, пожилой уже священник шел впереди всех и пел: Святый Боже! Из храма доносились последние слова Великого славословия. Вот, священники, со склоненными шеями, как дети, вынесли Святую Плащаницу. Народ покорно расступился и подхватил: Святый Крепкий!
Крестный ход начался, Стешу подтолкнули вперед, и она поплыла, носимая человеческой волной, но, видя вокруг только дружеские лица, вместе со всеми взывала: «Святый Бессмертный, помилуй нас!»
Вдруг ей навстречу, отделившись от толпы, побежали ее родители. Она поначалу не узнала их. Какие-то человечки. Мама в варежках на резинках, в клетчатом пальтишке до колен. Родители бежали и кричали:
– Стеша! Подожди нас!
Но она плыла, носимая волной праздничного люда и смогла только вымолвить, вливаясь в общее пение: «Святый Бессмертный, помилуй нас!» Родители долго еще бежали, крича друг на друга и на нее, бросаясь снежками и плача.
Но Стеша уже потеряла их из виду.
В свете одинокого светильника одинокая фигурка металась по постели и, пытаясь поднять руки, и кричала одними губами: «Святый Бессмертный, помилуй нас!» Белые полотнища вздымались вокруг, плескались в струях неведомого ветра, как огромные крылья, на которых лежали светлые блики.
Стеша не слышала, как зазвонил телефон, хотя встала, пошатываясь, подошла и сняла трубку. Звонила матушка Анна.
– Я взяла ваш телефон у Верочки из лавки. Я сейчас к вам приеду.
– У меня тамбур закрыт.
– Вы мне откроете?
Секунду Стеша стояла молча, пошатываясь, но потом спокойно сказала:
– Да.
В трубку проникли короткие гудки. Стеша поняла, что главное в жизни сделано. Держась за стены, она добрела до входной двери, отперла ее и, сделав несколько запредельных по трудности шагов, открыла дверь в тамбур.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу