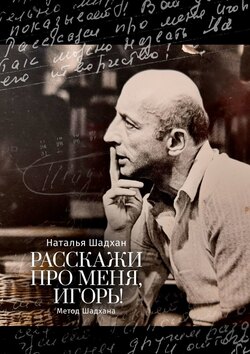Читать книгу Расскажи про меня, Игорь! Метод Шадхана - Наталья Шадхан - Страница 11
Глава 4
Шахматы
ОглавлениеИ. Ш. Звонит Ашкенази: «Ты играешь в шахматы?» – «А что, бывают евреи, которые не играют в шахматы?» – в тон ему отвечаю я. – «Срочно приезжай!»
На четвертом этаже Ленинградского телевидения огромный ангар, метров 300: столы, столы, за столами люди, у всех оживленная работа. Мне нужна работа. Я прошел метров 200 и уперся в перегородку, за ней – кабинет главного редактора Учебной редакции. Встает мне навстречу респектабельный человек в очень хорошем костюме, седеющий, явно преуспевающий, представляется: «Дамир Касымович Зебров». Я легко протягиваю руку: «Шадхан. Да, я играю в шахматы». (Зачем отвечать вопросом на вопрос?).
«Мне нужен телевизионный журнал „Шахматы“, сделаете?» – «Конечно!» (Если б меня тогда спросили, не построю ли я им атомную станцию, я бы не задумываясь ответил: «Построю!») – «Пишите заявление».
И я пишу заявление, только вдумайтесь, на имя ректора Ленинградского государственного педагогического института члена-корреспондента педагогических наук Александра Петровича Боборыкина и прошу принять меня на должность старшего инженера лаборатории учебного телевидения с исполнением обязанностей режиссера Главной редакции учебных программ Ленинградского телевидения. Перечитываю иногда эту запись в моей Трудовой книжке.
Почему вдруг нашлась возможность обойти пятый пункт моей анкеты? Раздумывать времени не было, так или иначе, я получил работу на Ленинградском телевидении.
У истоков учебного телевидения стоял профессор Степанов, заведующий экспериментальной лаборатории Педагогического института. Он понимал, что телевидение может играть огромную роль в процессе обучения и популяризации знаний. Его волновала средняя школа: как методически разработать уроки литературы, математики, истории и т. д. и как их транслировать в помощь учителю и ученику. Передо мной открывалась новая сфера деятельности, которая тут же стала очень интересной для меня. Я не почувствовал себя ущербным, мол, есть большое телевидение, а я буду заниматься серым, скучным, учебным. То, как Степанов нарисовал картинку и поставил задачу, означало: я должен сделать это заразительным. Но чтобы здесь закрепиться, я должен был придумать журнал «Шахматы» и я сразу его придумал. Причем, в той модели, которую я предложил, журнал шел еженедельно на Ленинградском телевидении в течение 12 лет.
Что же я придумал? Первая получасовая страничка адресовалась тем, кто не умеет играть в шахматы. Вторая – для ребят уровнем повыше. Третья передача месяца была разбором какой-нибудь знаменитой партии, например, одной из самых красивых партий Алехина или Ботвинника, Бронштейна, Ларсена, был такой известный датский гроссмейстер. Ну и четвертая… дойдем еще, не торопитесь.
1970 год, все еще живы! К нам приезжали гроссмейстер Михаил Таль из Риги, тренер Ботвинника Семен Фурман, Виктор Львович Корчной, Юрий Авербах, Давид Бронштейн, Борис Гельфанд!
Но кроме них, достигших высших вершин, были те, кто имели дело с детьми. Например, Владимир Григорьевич Зак, который воспитал Корчного и Спасского в Ленинградском Дворце пионеров. Он был уникальной личностью, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР. Сколько ребят воспитал! А те десятки великих учителей, работающих в районных домах пионеров! Я оказался в среде, совершенно невероятной по интеллигентности и подходу к детям. Я снимал, как с ними разучивали дебюты и комбинации, как углубляли знания, присутствовал на тренерских уроках Зака, помню тишину в его шахматных классах, но, когда можно было пошуметь, те же дети кричали, азартно спорили. Как дети играли блиц-турниры по пять минут на партию – только кнопки отжимались! Я стал присутствовать на шахматных соревнованиях.
Это я рассказываю про первую страничку для начинающих. Она была адресована семье: давайте учить детей шахматам! Ее вели Владимир Зак, а потом Борис Нох, пожилой опытный педагог, у которого была своя методика. Он был озабочен, как сделать обучение детей более наглядным, были опробованы специальные демонстрационные доски, и мы вместе решали, как лучше показывать это по телевидению, как совмещать кадры, чем заполнять паузы на раздумье.
Для меня в телевидении всегда важно было придумать вот этот контакт, эту нитку, поле общения со зрителем. Что я должен сделать, чтоб втянуть зрителя в экран? Об «эффекте присутствия» достаточно много писали. Но одно дело динамичный футбол, когда зритель следит за игрой, и совсем другое – удержать внимание в сложных интеллектуальных играх, наполнить изображение внутренним действием, добавить режиссерские ходы-выходы. Именно режиссерская работа с ведущим, с оператором, со зрителем, делала шахматный класс зрелищем, и это была режиссура особого толка.
Четвертая передача каждого месяца – долгожданный конкурс. Когда участники приходили на конкурс, они сразу получали жетон, определяющий, белыми им играть или черными. Гроссмейстер делал первый ход и, по правилам, мог вмешаться в партию всего лишь два раза. Например, Виктор Корчной возглавлял команду белых, Михаил Таль – черных. Они и так-то друг друга не сильно любили, а тут еще я их на телевизионной учебной площадке сталкивал.
По итогам жесточайшего отбора команда формировалась из 10—12 игроков, все шахматисты 1—2 разряда. Две минуты на обдумывание хода. Вся передача длилась час. Выкрикивались несколько вариантов ходов, и гроссмейстер мог выбрать только из предложенных. Но два раза за партию он мог сделать самостоятельный ход. Постоянные ведущие – мастера спорта Павел Кондратьев и Борис Владимиров. Журнал «Шахматы» сразу заметили и на телевидении, и в городском эфире.
Вы не представляете, как это было интересно! Сколько было писем и звонков, заявок на участие!
Что я принес в учебную редакцию? До меня там иллюстрировали учебник, я же привнес туда настоящее, нормальное телевидение, понял, как переводить учебный материал в другой язык, другую систему координат, чтобы сделать процесс заразительным. Итак, три недели в месяц мы выдавали журнал по 30 минут и в четвертую неделю – часовой конкурс.
Таким был мой дебют в Учебной редакции, и Дамира Зеброва это устроило по нескольким параметрам. Во-первых, я создал жизнеспособную структуру, которая исправно работала (когда я ушел, журнал продолжил делать мой ассистент). Во-вторых, ко мне очень хорошо относились люди, с которыми я работал, шахматисты – и большие, и маленькие. В шахматах я оказался в своей среде, попал в свой «еврейский квадрат», и это никому не мешало. Зебров чувствовал, что я вношу в обучение долгожданное телевидение, в котором он сам ничего не понимал. Он по образованию был преподаватель, кандидат наук, но главное его качество было не в этом.
Он был деляга, предприниматель по духу своему. Третий плюс, который он во мне нашел, имел к этому его свойству прямое отношение. Он стал на меня выписывать деньги, которые я должен был ему отдавать. Я же вне штата, приписан к Педагогическому институту имени Герцена. Штатным сотрудникам платили очень ограниченно, а нештатным сколько хочешь.
Создавались передачи, например, по истории. Педагог, который ее разрабатывал и вел, получал 12 рублей. А автором записывали Шадхана или еще кого-нибудь, кому выписывали не 12, а 100 рублей. Эти деньги я отдавал Зеброву, а он делился с Марковым, я убежден, Борис Александрович Марков знал его жульническую натуру. Зебров был татарин, но это, понятное дело, лучше, чем еврей. Меня этот компромисс ничуть не напрягал. Вскоре картина прояснилась окончательно.
Дело в том, что главным редактором Ленинградского телевидения был Николай Александрович Бажин, в прошлом кандидат в мастера спорта по шахматам, а дочь его Леночка Бажина была мастером спорта. Зеброва он недолюбливал, и, чтоб угодить ему, Зебров решил создать в Учебной редакции журнал «Шахматы», а чтоб план воплотить, Ашкенази нашел Зеброву Шадхана.