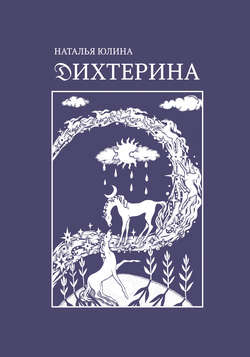Читать книгу Дихтерина - Наталья Юлина - Страница 6
Часть первая
Тянь-Шань
Рабочий день
ОглавлениеИтак, новый месяц. Начинается в четверг, кончается в пятницу. Всего один день. Хороший месяц, быстрый.
Завтрак прошел незаметно, слава богам.
Дома ни капли воды. Сходила к бане с бидоном. Бочка пуста. В столовой Роза сказала, не знаю, нет у нее на запас ничего. Говорила, мол, Миша утром еще обещал. Чем это Миша так занят? Не может съездить, всего-то ехать десять минут вниз, там минут двадцать, пятнадцать с осторожностью вверх.
А зачем нам вода, спросим себя? Пить кофе, чтоб после в койку залечь до обеда, но книга не стоит того. Можно к Диане сходить, наверняка угостит, если не кофе, так чаем. Нет, будет долго и страстно о случаях в жизни своей ли, чужой распевать. Все-таки долг прежде всего, попьем кофе в лаборатории.
Вот я пришла на работу. Это – дом напротив трактира, чтоб работник к обеду успел. Впрочем, дома друг от друга так близко – и всего-то их три – от любого к любому почти так же мало идти. К тому же, где «корпус рабочий», если не знаешь, просто так не поймешь. Все – избушки.
Ступенька. Дверь туговата, руками обеими тянешь – и ты в темноте. Это тамбур. После двери второй свернула направо, кофе запахло и чем-то еще. Здесь – материальная часть всех научных исканий. Электронное сердце бьется лучше, когда алкоголь в проводах, вернее сосудах мужей-электронщиков наших.
Коля с Артуром – тандем замечательных пьяниц. Да и как не дружить, если винища, любого, наверное, баррель выпит, и проект существует выпить еще. Я всегда завидовала пьяницам. Теплые они люди. Приняли и, чуть тепленькие, породнились. Бескорыстная дружба мужская не миф, не легенда, но тайный Орден Братьев по Жажде. Женщин в Ордене нет и не будет, все равно, если женщина пьет. Дернув дверь и увидев их лица, свой изъян я готова забыть.
Вторник сегодня, все выпито, мрак.
В безысходности полной, полнее на свете и нет, – накаляют паяльники разом при виде меня. Молчат, настороженным взглядом Артур что-то тайное Коле сказал. Мне в Орден нельзя, я знаю.
А в комнате благостным ладаном веет. Разноцветье крошек цилиндров усатеньких, пыль, проводочки, громоздких приборов засилье – всё, кажется, ждет окончанья поста.
Кофе, хоть слабое средство, вскипает. Коля из колбы, варежкой старой ее прихватив, на три граненых стакана по чуточке всем разольет. Губы сожгу, но глотну. Пьем без сахара, соли, изысков прочих, буржуйских. «Деньги лишние в дело» – девиз, тоже тайный, но и чужому – понятный. Что-то я говорю, что-то мне отвечают, но все помыслы Братьев не здесь.
Мне пора на работу. Вышла, намолчавшись с друзьями довольно. Слева – сердце научных исканий – длинная комната, три окна на восток, точнее, на баню, столы друг за другом, как в школе, стулья за ними, а напротив большие шкафы. Что в них? Звездочетов талмуды-таблицы, старых журналов астропривет. Физики чистой немного, фантастики больше, толстых томов футуристов, где футурум естественно в дальнее прошлое врос.
Странно, но только в комнате этой пахло жильем.
Люди, когда-то сидевшие здесь, и подолгу, след оставили – запах, и, смешанный с пылью книг и шкафов, и разных отчетов бумажных, этот запах уют создавал, подобье жилья.
Не то в наших кельях, где каждый один обитал. Горный воздух чужих не пускает.
Что еще здесь приятно: можно работать под Баха, хотя и Стравинский, как стимул, кому-то хорош. Я не умею работать и слушать. Для музыки можно хоть ночью сюда заглянуть.
Пол-одиннадцатого, и я сижу в лаборатории, передо мной Пикельнер. Учебник астрофизики. Пока не одолею десять страниц, не встану.
В лаборатории, за Пикельнером бедным самое скучное время стекало с меня, как вода – бесследно. Но однажды наткнулась на шкаф, где за папками прятались книжки живые. Прежних насельников чтиво. Разные были там книги, вплоть до стихов, больше же рухлядь.
Пару недель торопливо бежала к «архивам». Долго листала записки, отчеты и сводки. Все пожелтевшее, в руки возьмешь, – времени след не отмоешь.
Диана сказала: «Ну, Наташ, на мусор польстилась, брось скорей, он заразный. Разве не можешь полезных занятий найти. Нитки можно купить на базаре, свяжи себе шарф».
Одиннадцать. Пока не дочитаю вторую страницу, не встану.
Полдвенадцатого. Сколько можно, вон солнце какое. И я убегаю.
Из моего крайнего дома (куда пришлось зайти, чтобы сменить легкие ботинки на тяжелые) не надо, чтоб выйти на волю, мимо никаких притворившихся мертвыми окон шагать.
Дорога прямой стрелой стометровой уходит, налево вильнув, на общий заезженный тракт. «Заезженный» сказано лихо, если в день три машины пройдут наверх, да две спустятся, уже перебор. Такое бывает по пятницам, ну еще в понедельник.
Вот трасса, чуть выше, чем наши домишки, полезла на гору, оставив «селенье» внизу. Под ногами мягкий оттаявший щебень, лед и вода. Быстро вязкое место пройду, и снизу глазу всяких зевак – недоступна, экспедиции видеть больше не буду.
Под ногами чавкает только на солнце, а в тени прямо асфальт. Длинный прогон, всюду темный, в распадок внедрился горы. Пора бы присесть, но где? Влево и вправо не ступишь, все вязко, и круто, и мокро. На камень ближний, почти придорожный? Этот не то, и другой не подходит. Вариантов немного. Похоже, что сверху валились и дальше со временем съедут. Не так-то легко подобрать. То живой – сползает, чуть тронешь ногой, то, как ледяной, невозможно больше минуты сидеть. На солнце устраиваюсь, наконец, и про все забываю.
Все, что со мной происходило в Москве, стопроцентно нереально. Где она, Москва? Есть ли она на белом свете? Конечно, есть, но не для меня. Там, где у меня была Москва, где был у меня Ты, в этом месте во мне что-то странное. Это место сделалось сакральным. Полностью нереальное, оно, тем не менее, не дает реальности обреальниться. Оно, а вернее Он, а еще вернее, всё, что осталось у меня от всех событий последнего года, переживаний, проживаний и дальнейших прожевываний, распространяет свое действие на всю меня, на все мои поступки. Затягивает меня внутрь себя, всю меня остальную. Это как черная дыра в космосе. Если продолжить аналогию, то космос должен быть благодарен черным своим дырам за то, что они не допускают в будущем худшего. Все плохое уже случилось, вот она черная дыра, и она – к лучшему.
Сакральное пункт моего сознания не пропускает в меня ни хорошего, ни плохого. Он, грубо говоря, не дает мне меняться, как гранитный памятник тебе и мне прежним, памятник внутри меня, такой большой, что ни влево, ни вправо, ни вперед, только назад в прошлое. Нет, памятник это чересчур. Уж лучше черная дыра. Одним словом, я вырастила в своем «я» такое сакральное место, что живу и не распадаюсь только за его счет.
Скорее всего, это религия, мною созданная, ежеминутно во мне происходящая. Я живу, имея ее внутри не сознания, нет, внутри себя чисто физически. Я и не знала, что я человек глубоко религиозный. Ладно, раз так, будем держаться за эту наработанную реальность. Мне с нею спокойно, мне с нею не то что легко, но жизнь полна и другой не надо. Одним словом, хорошо.
Усыхающее пространство моей любви окружено влажной солнечной весной. Весна, проникая в душу, наполняет жизнью Его образ, примерно как кровь оживляет вурдалака, но, увы, я не могу вспомнить лицо. Оно исчезло. Пустынное пространство воспоминаний выращивает мое о нем представление, оно, как прежде, сухо и не живо, и я не забочусь больше ни о каких представлениях. Я осознаю, что моя любовь – это я, и не я. Настолько не я, чтоб мне помогать, настолько я, чтоб мне мешать. Все было бы прекрасно, если б не было так омерзительно. Но омерзительность – это мое личное свойство, мое ДНК, мое обмирание.
Покончим. Пора на обед. Вниз бежать еще веселей, чем вверх подниматься. Две совсем разные дороги. Вверх – мокрая, вязкая, и даже мысль может остановить, вниз – просто движенье, подсчет поворотов. Мелькание белого, черного, снега, камней. И наших домишек сиротский приют выбегает навстречу.
Что там на обед? Новенький? Здорово. Разве из наших кто-нибудь может живое сказать.
* * *
Что за прелесть наша кухня солнечным деньком. Избушка на камне, как шашлык на вертеле под елкой высокой. Роза в гонг на обед прогремит, и первыми белки по елке поскачут. Вниз, вниз, серпантином, на пень. Там уже выложено угощенье, утренней каши кусок, и семечек кто-то насыпал.
Вхожу и слепну от темно-лилового света темноты. Это привычное солнце исчезло, поскольку в южной стене нет окна. Вид из другого – камни, будто камнями пытались ТРАКТИРЪ завалить.
Справа, как входишь, стол полированный, светлый, на черных железных ногах. На столе телефон, один на все ученое и не очень ученое население. По левую руку вешалка, куртку туда. Два ряда столов, тех же черноногих красавцев, за вешалкой следом.
Ну, хорошо. Самое время аборигенам честь оказать, за стол усадить.
За дальним столом на месте всегда неизменном наш верный Артур. Всегда молчаливый, а скажет, так шепотом, кажется. Тихий – не слово. Что, потаенный? Не знаю. Скорей, упоенный. Просто не хочет ни с кем ни о чем говорить. Но и не только. Мне, и не только мне, вовсе не хочется ближе к нему подходить. Темен. И слово любое любого, чуть к слуху его подберется, тотчас исчезнет, как камень, любовно озером скрытый навечно. Аминь.
Что пьяница он – не сразу осмыслишь. Лишь по легкой нетвердости ног.
Довольно Артуру вниманья. Другие ведь есть за столом.
Кто еще? Астроном по фамилии Шаров. Наш главный астроном, завхоз и ходок.
Не огромный, не столп, а скорее, кубышка. Но могучесть с психической силой, пожалуй, можно сравнить, – крутенек, впрямь сибиряк. Ну, а как по-другому, если ты поселился в горах. Дом его в долине соседней, прибегает оттуда пешком. Там жена, кажется, дети, может, кто-то еще?
Шар, естественно, знает всегда, что он хочет. Шар знает всегда, что каждый из нас, в свою очередь, должен хотеть. Если же очередь вышла, ты должен уже не хотеть то, что очередь хочет. Одним словом – хозяйственник крепкий.
Но Шар, это что! Многих других мне б хотелось украсить, приклеить, вписать. Но времени нет. Ведь рабочий день ожидает.
Вот он, новенький. Лицом ко входу, спиной к кухне. Не нравится. Слишком мужик, я люблю женственных, тонких и добрых. Христос, если по правде, никак не мужик.
Первое впечатление от человека самое верное. То, что ты видишь сначала, ничем не прикрыто, не затуманено, не завешено словами. Потом будешь думать другое – не верь.
Я здороваюсь со всеми, на него нахально глядя. В последний момент дрогнула, взгляд соскользнул.
После обеда, известное дело, тянет общаться, рассказывать, слушать, любить. Любить собеседника, солнце и солнечных бликов игру на стене, потолке, на лице.
Лирика, брысь. Вот он, момент. Рабочий день не кончился, Пикельнер под мышкой, и марш на рабочее место.
Ну, вот. Он – зовут его Женей – тут. Слово за слово, договорились завтра с утра побежать на вершину. Самую близкую, простую. А главное, без снега. А рабочий день? С божьей помощью. После ужина сразу друг обретенный спать отвалил. (Боже, ну и слог.)
Наутро пошли.
Почти уж когда поднялись на вершину горы-развалюхи, хребет начался, ползущий медленно вверх и усеянный маленькими, как снизу казалось, камушками, жандармы им имя. Здесь наверху они были как трехэтажные башни, то толще, то тоньше. Жандармы тянулись один за другим. Справа – не круто, но камни большие, идти – не пройдешь. Слева – отвесный обрыв бесконечный. Что друг мой исчез, я поняла, когда полочка выскочила перед глазами. Небольшая, шириною в ступню, длиною шагов пять, но слева стена, а справа обрыв, обойти этот каменный палец нельзя. Друга не видно нигде. Возвращаться? Пройдено много, и дальше полегче пойдет. К левой вечности левым плечом прикоснусь и забуду – полочку я одолела. Незаметно так, из вечности вышла в опять.
Друг мой здоров и силен, скорее всего, полочку видит шоссейной дорогой, иль вовсе как-то иначе прошел.
Женя (не совсем ведь) ждал меня метрах в ста ниже. Не совсем, значит. Другой мог бы прийти без меня, в приюте сказать, затерялась.
Часа три обходили гору вокруг, чтобы вернуться.
В четыре, после обеда и в бане помывшись холодной водой, в том же казенном доме рабочий день продолжала. Тот самый рабочий день, что вчера начинался, сегодня над Пикельнером бедным слипались глаза.
* * *
– Шар, наливай.
– Не много ли будет? Ты ведь товарищ равнинный. Не забывайся, здесь высота, Женя, не то, что в нашей высотке, не 13–15. Да и мы не те.
– Ну, только не ты. Ты все такой же, непьющий к тому же.
– Здесь по-другому нельзя.
– Ну, будем. За встречу.
– Ладно. За встречу.
– Да, уж здесь-то как раз. Непьющих я сроду не видел. Пардон. Кроме тебя.
– Придумки. Что, Диана что ль с мужем?
– Ну, эти всегда вне игры. А новая как?
– Про Наташку? Пьет ли она? Хуже. Курит, как крейсер. Мы поначалу влюбились как будто в нее. Каждый вечер, я принесу, у Артура чего-нибудь будет, Валька откажет винца. Сидели, пытали ее, что да как там, в Москве, там во храме. Храм, говорит, весь на месте, и даже звезда, и астроначальство. Очень она… беспричинна. Мало что знает и знать не желает про нас. Вещица в себе. А так ничего. Может, я сурово сужу, у меня точка зрения суровая.
– Да, я слышал в Москве. Что-то с женой?
– Правильно слышал. Вот, старик, такие дела, закрываешь глаза, а там столб черный, вертикальный. Ни влево, ни вправо. Стоит столб, стоит жизнь моя. Летел, летел и сел. Может, вообще, всё.
– Что всё? Ты меня пугаешь.
– Заразная это болезнь – шизофрения. Встанет столбом: ни влево, ни вправо. Нет, ну конечно, человек, пока жив, он во времени, он меняется. Но шизофрения – это другое время. Оно столб. Ни влево, ни вправо. А под столбом человек раздавленный корчится.
– И давно это? Да я ж ее помню. Сразу после твоей свадьбы приезжал. Как все это?…
– Теперь даже вспомнить трудно, как все начиналось. Кажется, это было утром. Просыпается она, – я уже оделся на работу, – просыпается она и говорит: «Ты знаешь, Норвегия нам крысу в дом привела жить. Крысу саму я не видела, а крысята совсем маленькие, с мой ноготь, голенькие, и ходят на задних лапах».
– Приснилось, с кем не бывает.
– Я говорю, это ты так все помнишь из сна? «Ну да, отвечает, Норвегия это сделала». Я похихикал. Хороша, говорю, Норвегия. Думал, она тоже шутит. Неделю меня не было. Приезжаю в пятницу, пока дела переделал, все ничего вроде, а ночью она мне и говорит: «Эти маленькие так у нас и остались». Какие маленькие, спрашиваю. «Крысята, – я ж тебе говорила. – Только на крысят они не похожи, потому что не растут». Ты, говорю, что, в своем уме, кто не растет? А она ничего не отвечает, только плачет.
– Ну, лечить, конечно.
– Я не понял тогда. Думал, пройдет. Перестала мне о них рассказывать, только вечерами дико иногда так на пол взглянет и ко мне подбежит. Я стараюсь ее успокоить, правда, раза два стукнул. И не помню, сколько времени прошло, как однажды она с пола будто что подняла, села на стул и покачивается, как ребенка укачивает. Пришлось к психиатру идти. А он ей лекарства. А она пить не хочет. Положил в больницу, полгода лежала, сейчас дома.
– Одна?
– Соседка заходит. Я ей плачу по чуть-чуть.
– Да, проблем у тебя выше крыши.
– Тоска. Тощей тоски. Только держись. В таком я виде, что, кажется, чуть-чуть еще, и сам пойду в психушку. Ну, а второе, это столб черный вертикальный. Как с ним бороться? Чтобы держаться, мне надо выкладываться физически. А эти цуцики разве поймут? Артур со своей мировой скорбью, как писаной торбой. Коля-заяц, обиженным он, кажется, родился. Власть, закон, начальство, жена, все созданы только для того, чтоб обидеть бедного зайца. Валька-блаженный. Вся жизнь ему с гуся вода. Им бы всем хоть сотую долю моих трудностей. Посидели б с Олей часов пять, посмотрел бы я на них.
– Да, тебе не до науки.
– Какое. Стою я на месте. И место какое страшное. А жизнь уходит. Уходит жизнь. А про новенькую планы были. Видишь ли, человек, любой, где б ни жил, что б ни делал, всегда жив своими близкими. И сам при этом должен в жертву себя приносить, близким своим, значит. А у неё всё не так. По-моему, ей этого просто не дано. На вид вроде нормальная, и лицо доверительное. В этом доверительном интервале можно работать, но… Осечка. По сути, пустота. Доверили ей телескоп, а она что – три дня работает, три недели отдыхает. Сидит у себя в комнате, как мышь. Чем занимается? Сначала я думал, что у неё с этим обормотом любовь, проверил, нет, ничего подобного. Пустота. А я себе навоображал, что все ей и про Олю, и про экспедицию расскажу. Она все поймет. Поймет, это ведь главное. Мне ведь что нужно? Поддержка. Я ведь один. Один хочу экспедицию вывести из затухания. Один за всех. Воровство завхоза надо прекратить? Надо. Потом, организовать пользование машинами по справедливости, потом, нанимать в городе людей надежных, а не шушеру всякую. Я бы все это осилил. Все бы сумел сделать. Мне только поддержка нужна. Я и так начальником экспедиции себя чувствую. Нет больше людей рядом. Помощников. Начальник из Москвы, он что, приедет, уедет, а я всегда на месте. Для того, чтобы его сменить, нужна диссертация. Для диссертации нужен покой в доме. А Наташка, она же здоровая. Мы бы с ней. Ммм.
– Сочувствую. Значит, не то она.
– Ну, ладно, развеселись, отвлекись. Вниз съезжу, надо сайгака на рынке купить. Запеку, с собою кусок наверх подниму, вот и веселье, вина-то небось, ты с собою привез.
– Ну.
* * *
Итак, жизнь оживилась, и время быстрее пошло.
День за днем, то по речке Медвежьей засохшей спускались, то вдоль озера вверх уходили гулять.
Да, с Женей в сравненье, все люди у нас для меня не свои. Женя москвич, как и я, а больше здесь нет из Москвы. Вырасти в столице, значит получить клеймо особого отношения к жизни, определенную дозу цинизма, романтизма и барской детской избалованности. Все обитатели нашего приюта, с точки зрения москвичей, простодушны, грубы, необразованны. Все москвичи, с точки зрения провинциалов, двуличны, развращены, заносчивы, неуязвимы, потому что бездушны – в общем, русского в них ничего не осталось.
Прошла неделя. Подошел срок ему уезжать. Теперь он казался мне почти другом, почти своим. Предложил вечером проводы сделать, чтоб только вдвоем, у меня.
Приходит. Вот, говорит, я пришел. Подбородком вперед, и улыбка больше на гримасу обиды похожа. Твердый рот, лишь с намеком на губы, набок пошел, скривился, кривые означив мечты. Сели, глядим оба в сторону. В разную.
Слово за слово, я разнюнилась от долгого пребывания в безмосковском пространстве, от выпитого вина, от близости этой мужественной взрослости и интеллекта. Что-то говорю, как бы ему доверяясь. Случай из жизни какой-то, где я белугой реву. Он оценил, что не слабость, а что-то другое в реве моем проявилось.
Ладно. Книги пошли в обсужденье. Тут он больше лирик, чем я, оказался. Паустовского любит. Ладно. Прижались, поцеловались – чужой. Рассказал, что фригидной меня обозначил, когда в опасных местах, как бы страхуя, рукою к груди прикоснулся, я – ни звука, ни шороха не издала.
Майку поднял, к соскам прикоснулся губами. Тут реветь начала. Чужой совершенно. Что ты? Не знаю. Не буду же всё, что в душе, говорить. Невозможно. Как будто реветь перестала. Он вроде расслабился. Секс, говорит, для меня ничего, не заботит. И думать смешно. Секс сам, если нужно, приходит, нельзя допустить, чтоб мешал.
Ладно. Секс твой хреновый. Чужой. Только дотронься, я в голос сейчас зареву. Погладил меня по голове. Встал. «До завтра», сказал и ушел.
В одиннадцать утром пришел. Никак, говорит, снизу машина не хочет. Я сказала, скорей бы. Он усмехнулся.
Ну, что ж, веру я не меняю, и сама не меняюсь так быстро, мне так легче и правильней жить.
Пообедав, вышла на свое место над озером. Весь обед опрокинула в черную пасть между двух острокрылых камней. Этот способ, замена валерьянки, давно мне известен. Действие – универсально. Нервы – канаты. Чувств никаких. Нирвана.
Снизу на следующий день позвонил. Приезжай, мол, машина пойдет. Нет, я сказала. Вот – всё.
* * *
Весна своей невероятной непохожестью стала временем счастья. Первый месяц всем насельникам нашим хотелось со мной говорить, Днем копошатся, но вот кончается день, нежное солнце в тумане, влажный воздух в дымке. Компания в легком опьянении алкоголем и весной собралась, ну, например, у Артура. Все молоды, красивы, добры, интересны друг другу. Никто не подозревает, что у меня камень на сердце, у Артура за пазухой, а у Шара на шее.
Артур улыбается, Шар философствует, а я… Что делаю я, бог весть, но я счастлива по-настоящему. По-настоящему, понарошку, я просто счастлива. Облетая каждый день эту террасу с маленькими домиками, я смеюсь, смеюсь тихо, смеюсь про себя. Как я выскользнула из этой вонючей, скользкой, двусмысленной Москвы. Как я убежала от разлагающегося трупа своей любви. Слава богу, усопшая любовь не болит. А что с ней? Она лежит где-то далекодалеко, но ты об этом знаешь. Ты знаешь, что она лежит все время, пока ты разговариваешь, смеешься, пьянеешь от счастья видеть все вокруг.
Расходимся на рассвете. Почти совсем светло, серо светло. Тишина вибрирует в ушах, а горы загадочно чернеют. Через три часа завтрак.
Зеленая весна пришла в июне.
Перевалив через холм за трактиром, стою над соседней долиной. Эта долина – моя. Ее, покрытую снегом, с этого места увидела в первые дни. Тогда поразила какая-то мертвая сила. Казалось, спуститься туда невозможно. Камни, ростом вдвое больше меня, застыли, будто в полете, между мной и долиной.
Весной, чуть повыше, там, где дорога, вильнув, поднялась над домами, каталась на лыжах.
За гору солнце едва опустилось, и майская каша схватилась морозом, я надела лыжи и оттолкнулась. В этот месяц Петя со мной не хотел разлучаться совсем и теперь проводил и остался у камня. Думала, холод, он быстро домой убежит, и я вниз понеслась.
Так-то легко, вот вверх – тяжело, чуть наступишь, наст провалился, а выбраться силы нужны. Два часа выбиралась. Не знала, что Петя, одетый так, чтобы бегать на солнце, всё это время будет стоять на снегу, меня ожидая. Почти и стемнело. Смотрю, он стоит. Волосы ярко белеют, остальное – синее с синим слилось. Голос почти потерял. Ладошки – сосульки. Еле оттерла. Скорее домой. Петенька – рыцарь, единственный друг настоящий.
Но сейчас июнь, здесь никого. Внизу, вместо горной реки сумасшедшей, течет голубая река из цветов. Что – незабудки, вначале никак не пойму: небесная синь повторяет изгибы долины, бесшумные волны уходят за мыс вдалеке. Огромность реки несравнима с какою-то горною речкой, заполнив от склона до склона не площадь – пахучий объем.
Спущусь, где повыше, над слишком большими камнями. Пройду через запах, сквозь синь проберусь, перейду. И вот я на склоне другом.
Поднялась.
Сколько бы раз я сюда, на вершину свою, точней на хребет, ни взбиралась, этот момент, эту точку, когда, наконец, наверху, – пропустить невозможно. Налево скалистый массив, тот самый, что ночью и днем в окошке меня стережет.
Вниз полоски различных оттенков под линзами дальности разной. Покой. Покой как веселье. Покой погруженья в себя. Лицом прикоснуться к ветра страстному лику. Ему улыбнуться. Верней, улыбнуться себе, что такая крошка, пылинка, а вот забралась и живет.
Тут твердая гладкость хребта начинает снижаться, двоиться. Камушки-мушки несутся за мной – я бегу. По правой тропе побегу, а налево в ложбине озеро примул. Лиловые крошки точны, словно крошечный чип. На теплой земле растянись, под зонтик соцветий устройся. Сколько их? Наверно, мильон. Тех, что рядом. И каждый цветок – остров сине-лиловых детей. Дети плотно и стройно стоят и платочками машут, и, может быть, что-то поют. Я не слышу.
Но что это? Рыжий сурок, к тебе повернувшись спиной, соседу о чем-то кричит. Вот, глазом слегка по тебе проведя, исчез под землею, как не был.
Возвращаюсь. Иду по камням на своей стороне. По склону, где только что я пробежала, спускаются овцы. Как тесто, недвижно по тропам овечьим текут.
Эй. – Мекнула звонко молодая.
Что? – Ответил патриарх.
Надое. ело, – из другой цепочки.
Дура, – коротко, пожилой баран.
А самм? – Опять из другого места.
Так, мирно ругаясь, в одном направленье идут. Лишь колокольчик вплетает в громкое блеянье звон.
Восторг кончился к июлю. Овцы съели цветы. Пусто в душе, и в теле сонливость и лень. Живу, будто в вате, ни звук, ни слова не доходят. Красиво кругом, да. Сурки, да. Игра света. Ну и что? Моя долина сделалась пыльной пустыней. В начале долины: юрты, кошары, костры. Люди, дети, собаки – не так их и много, но овцы сожрали цветы.
– Поликсена, любовь моя, я куда-то делся. Не знаешь, куда? Поищи, пожалуйста.
– Да, ладно уж, Исидор. Я тебя и девавшегося уважаю.
– Уважаю, уважаю. Страшно, так-то вот.
– Поищу, поищу. Вот дай платок накину.
– Лучше, лучше смотри. А то уткнулись все в свои деньги и считают, считают. Копейки пересчитывают. Как пересчитают, может, тогда и найдут, а, как думаешь?
– Найдут, Исидорушка, найдут.
– В небо, в небо смотри. Может, я там. За дерево зацепился, за тучу завалился. Почаще смотри, не специально, а так, мимоходом.