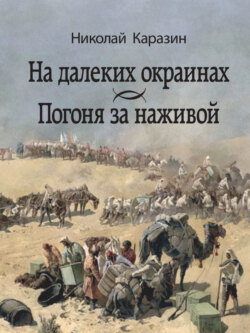Читать книгу На далеких окраинах. Погоня за наживой - Николай Николаевич Каразин - Страница 25
На далеких окраинах
Часть третья
I. Тяжелые дни
ОглавлениеПрошло месяца три со времени катастрофы у Беш-Агача. Тревоги, лишения и все ужасы тяжелой дороги, когда пленнику приходилось переходить из рук в руки, рискуя каждую минуту попасть под мстительный нож обиженной стороны, все это было пройдено и окончено. Жизнь Батогова вошла уже в более или менее определенные рамки, в грустные рамки безысходного рабства.
Европеец в плену у дикаря! Раб, в умственном развитии превышающий своего господина!
Рабство – самая страшная казнь, постигшая когда-либо человечество, но подобное рабство, это высшая степень этой казни.
Для Батогова настало время тяжелых испытаний: не выдержал бы он этой пытки и давно бы покончил с собою, благо случаев к тому представлялось достаточно, но у него была надежда на исход, эта надежда поддерживала его в самые критические минуты, эта надежда заставляла его не совсем уже хмуро глядеть в эту беспредельную даль, туда, к северу, туда, откуда вон летят вереницею длинноногие журавли, вон, еще виднеются какие-то отсталые птицы. Ему было иногда даже очень весело, он громко хохотал, пел, на удивление кочевникам, русские песни и забавно переводил им сказки про лисицу и волка и про трех братьев, двух умных и третьем дураке. Раз он даже показал, как плясать вприсядку, и ловко подладил на туземной балалайке знакомый мотив «Барыни».
И все эти чудеса делала надежда.
Вон она! В киргизской шапке, полуголая, с громким удалым свистом и гиком, помахивая в воздухе волосяным арканом, гонит вместе с другими киргизами хозяйские табуны на водопой к тем колодцам, что чуть виднеются между песчаными буграми, верстах в трех от аула, и то потому только виднеются, что около них вечно толпятся либо люди, либо животные, а чаще те и другие вместе.
Вчера эта «надежда» тихонько подбросила ему славный кусок баранины, такой кусок, что только самому его хозяину, мирзе Кадргулу, так в пору…
Эта надежда была его бывший джигит – Юсуп.
Он совсем в своей тарелке, он, положительно, чувствует себя как дома. Ишь, как носится он на неоседланной лошади: его крик слышится громче всех, его аркан выше других взвивается в пыльном воздухе. Это от него так шарахнулись кони, отбившиеся было в сторону…
Юсуп мастерски разыгрывал свою роль, лавируя между привязанностью и какою-то странною любовью к своему господину и необходимою осторожностью, которую приходилось доводить до самых утонченных размеров, принимая во внимание наблюдательность и живую подозрительность кочевников, могущих в одном неосторожном движении, в одном неловко сказанном слове найти роковую развязку…
Раз Батогов дурно вычистил лошадь мирзы Кадргула. Сам мирза выругал его, Юсуп, собиравшийся ехать вместе с мирзою, толкнул Батогова в загривок и толкнул его так, что сам мирза Кадргул сказал:
– Ну, за что?.. Это он в первый раз только.
Другой раз Юсуп в большом обществе, не стесняясь присутствием Батогова, рассказывал про русских такие небылицы и так красноречиво описывал разные нелепости их обрядов и обычаев, что даже сам увлекся своею бранью, ругался напропалую, подбирал для «белых рубах» самые обидные сравнения1 и, наконец, пустил в Батогова дынною коркою, заметив в задних рядах слушателей его изумленную физиономию.
А потом ночью, проходя, словно нечаянно, мимо пленника, чистившего хозяйскую сбрую, проговорил тихонько, глядя совсем в другую сторону: «Ты, тюра, не сердись: Юсупка знай, какой дело надо делать!»
Недавно вернулись из небольшого набега на персидскую границу, приглашали с собою и Юсупку. Такому джигиту не приходилось оставаться дома, у которого и кони лучшие по всему окрестному кочевью, и оружие такое, что не всяк еще его и видывал, а слышали, что у русских только такие, да вот еще сказывали проезжие купцы-афганцы, что за теми далекими горами, что прямо на полдень, в Индостане у инглизов2 такие же ружья делаются.
Да и не раз Юсупка заявлял уже о своей отваге и наездничьей ловкости, и таким лихим джигитом, как мирза Юсуп (его иначе и не величали в аулах)3, брезгать не приходилось даже самому мирзе Кадргулу.
Батогов, конечно, оставался дома, в эту минуту аул перекочевывал верст за полтораста на новое урочище, и пленник шел при верблюдах мирзы Кадргула вместе с другими рабами и рабынями бия.
Поход на персидскую границу был довольно удачный (спасибо еще чодоры подсобили). Сами потеряли трех джигитов да одну лошадь, а привезли с собою двадцать два верблюда, семерых персиян, пару ослов крупных, особенных, не таких ишаков маленьких, что в Бухарском ханстве, а с добрую лошадь, только потому и узнаешь его, что уши длинные… Еврея4 одного нашли еще при караване… Двух баб везли с собою, да не довезли: одна дорогою сдохла, а другую так, живьем, пришлось бросить, потому тоже чуть дух переводила, только ныла, за седлом сидя, и тоску нагоняла, а барышей с нее ни тем, ни другим не предвиделось: стара уже совсем была и зубов во рту столько, сколько колодцев от их аулов к хивинскому хану, всего только четыре.
Прирезать ее хотели, да мирза Юсуп удержал: «Оставьте, – говорит, – зачем ножи пачкать, примета такая дурная есть. А коли надоело везти, то бросьте ее так, пускай сама своею смертью кончается!»
Ну, и бросили. Распустили пояс, которым она была привязана, она и сползла сама, так на песке и осталась одна сидеть среди степи.
Мирза Кадргул очень доволен был этим походом. Первым делом двух верблюдов, да не персидских, – те были худы очень, – а из своих, велел отобрать, послал с подарками к хану. Это всегда пригодится, на всякий случай, больше для того, чтобы лишних разговоров не было. После этого мирза байгу устроил5: шестерых баранов зажарил и кумысу выставил столько, что всяк пил, сколько ему в горло лезло. Выпили-таки достаточно. Сама старшая жена мирзы Кадргула, старая Хаззават, даже рассердилась, глядя на пустые козьи меха, и, придя на свою половину, произнесла, указывая на гостей, лежавших врастяжку:
– Ведь не лопнули же, обжоры проклятые!
И к Батогову мирза Кадргул стал немного милостивей, не толкнул его рукояткою нагайки, когда тот сегодня утром держал ему стремя, а прежде без этого редко обходилось, а потом велел дать ему то баранье ребро, которое унесла было из котла хозяйская собака, да спасибо, бабы вовремя заметили и отняли.
Дня два погуляли всем аулом, а потом и опять принялись за свое обычное дело.
Таким образом, изо дня в день, из недели в другую, тянулось бесконечное время: то небольшой набег, то ушлют в степь с хозяйскими овцами, то погонят верблюдов, забредших, Бог знает куда, отыскивать, да добро бы одного погнали, а то всегда с кем-нибудь еще: боятся, чтобы не ушел. А куда уйдешь один, пешком в этой безводной степи? Пройдешь верст тридцать, да и ляжешь в изнеможении, а это все равно, что смерть: без воды не проживешь и суток при такой жаре, что от горячего песка лопается кожа на босых ногах, а на голых плечах чуть не пузыри вскакивают. А поймают, тогда еще хуже: или всю жизнь проведешь, как собака, на привязи, или просто зарежут под горячую руку.
А на ту беду и Юсупка, вот уже скоро две недели, словно сквозь землю провалился, то, бывало, он, хоть мимоходом, взглянет ласково, а иногда и буркнет под нос, так, чтобы слышал только тот, кому следует:
– Погоди, тюра, Юсупка хорошую думу думает, и как кончит думать, тогда за дело оба примемся…
И хорошо знал Батогов, о каком деле намекал ему его верный джигит.
Эта дружеская речь, как свежий ветер разгоняет тучу, разгоняла мрачные думы пленного, и капля по капле подливала масла в эту закопченную от слишком частого употребления лампадку надежды, начинавшую уже чадить и тухнуть.
Раза два так тяжело приходилось бедному Батогову, что он был близок к самоубийству, и каждый раз Юсуп своим появлением удерживал его, и в нем снова воскресали твердость и готовность бороться до конца, благо крепкое тело выносило всякую невзгоду.
Работники-киргизы, теперешние товарищи Батогова, относились к нему презрительно, с каким-то озлоблением, словно он отнимал у них хлеб или подрывался под их благосостояние… Они смотрели на «русскую собаку» свысока: это был раб и только, а они – работники. Хотя действительной разницы было очень мало. Так же, как и Батогова, так и любого Каримку, Малайку и Шафирку мирза Кадргул мог запороть нагайками до смерти, мог просто зарезать и никому не держать ответа. А относительно работы они были уравнены совершенно: так же таскали воду из колодцев, так же целые дни ничего не делали, лежа на брюхе в степи на каком-нибудь бархане и поглядывая, как бы бродяга волк не подкрался к необозримым отарам хозяйских баранов.
Но эти работники были мусульмане, правда, такие, что смешивали Магомета с самим Аллахом, не знали ни одного стиха из Корана, не видывали никогда даже этого Корана, не знали вовсе, чем именно их вера отличается от какой-либо другой, но знали только, что они мусульмане, правоверные, а он, известно, «русская собака». Ну, и довольно.
Они гораздо ревностней стерегли пленника, чем сам его хозяин, и если бы Батогову удалось убежать, то они сочли бы это самым тяжелым личным оскорблением.
Находясь вечно глаз на глаз с пленником, они составляли такую бдительную стражу, провести которую было почти невозможно, я говорю «почти», потому что действительно невозможного существует весьма немного.
Это препятствие более всего затрудняло и Батогова, и его изобретательного Юсупа. Вот главная причина, почему мирза Юсуп так долго обдумывал свою думу.
Только два исхода могла бы иметь попытка к бегству: или полную удачу, или же смерть. Средины не было вовсе.
Юсуп находил еще, что, принимая все это в соображение, дело делать еще было не время.
Раз вечером, когда солнце только что село и в воздухе стало свежеть, Батогов, с большим козьим мехом на спине, шел от колодцев, направляясь к большой ставке своего хозяина. Тяжелый мех, наполненный водою, сильно нагнул ему спину, и его босые ноги выше щиколотки уходили в сыпучий, еще не успевший остынуть песок.
Рядом с ним ехал, на одном из добытых ослов, другой работник – киргиз, перекинув через седло еще два полных водою меха.
Поблизости колодцев песок был очень сыпуч и на нем трудно было прочно установить кибитки и желомейки: изредка налетевшим ветром вырывало небольшие колки, и эти переносные жилища легко могли быть снесены с занимаемого ими места. По этой причине аул расположен был несколько поодаль, там, где грунт был тверже и можно было вбивать колья для коновязей, у которых стояли на привязях хозяйские верховые кони.
Подходя ближе, Батогов заметил, что близ ставки мирзы Кадргула стоят два усталых коня, видимо, пришедших издалека. В одном из этих коней он узнал своего Орлика. Он так обрадовался, что разом прибавил шагу и, несмотря на свою тяжелую ношу, чуть не бегом пустился к задним кибиткам, где помещались жены мирзы Кадргула, по требованию которых он и ходил к колодцам.
Ехавший с ним киргиз тоже подогнал своего осла, удивился, откуда взялась прыть у «русской собаки», и сказал:
– Ты что же это? Другой раз я тебе два меха навалю. Ты сильней моего осла.
Батогов опомнился и пошел тише.
В кибитке у мирзы Кадргула собралось довольно многочисленное общество. Джигит мирза Юсуп приехал издалека, он, вероятно, новости привез, будет чего послушать… А кочевники вообще страстные любители новостей всякого рода.
Не успел мирза Юсуп слезть с лошади, не успел он произнести обычное «аман», не успел ему тем же ответить мирза Кадргул, вышедший к нему навстречу, а уже весть о приезде джигита разнеслась по всему кочевью…
– Юсуп приехал.
– Какой Юсуп?
– Джигит, что бежал от русских.
– Ну!..
– Мирза Юсуп!.. Где он остановился?..
– Эй! Поедешь мимо, скажи Осману: Юсуп приехал.
Вот говор, который, почти с быстротой электрической искры, пробежал от кибитки к кибитке, от аула к аулу.
И вот все, кто только могли по своему положению войти гостем в кибитку мирзы Кадргула, собрались послушать рассказ приезжего джигита.
Полы большой хозяйской кибитки, широко и просторно расставленной на возвышенном месте, были приподняты, и ветер свободно проникал во внутренность жилища, освежая его душную атмосферу. Верхняя кошма была тоже откинута, и ровный, мягкий свет вечернего неба, проникая сквозь решетчатые ребра крыши, сверху освещал сидящие полукругом оригинальные фигуры. На главном месте, на мягком слое ватных одеял, прислонившись спиною к кибиточным решеткам, сидел сам сановитый хозяин, неподалеку от него сидел мирза Юсуп, еще не успевший отряхнуть пыль со своего верблюжьего халата. Лицо его было тоже все в пыли и закопчено, над правым виском виднелся довольно значительный шрам, шрам новый, и когда кто-то, заметив эту новую прибавку, спросил: «А где это пророк послал тебе новую милость?», Юсуп уклончиво отвечал: «Так, случай тут был неподалеку».
Мирза Юсуп и все гости успели уже рыгнуть по второму разу.
Рыгание выражает то, что гость вполне удовлетворен угощением хозяина и наелся до последней степени. Позабыть рыгнуть – значит показать себя человеком, совершенно не знающим приличия. Рыгать слишком часто – это тоже могут принять за слишком уже усиленную лесть, и потому тут тоже должна быть своего рода сноровка, которую и изучают вместе с остальными правилами азиатского этикета.
Итак, гости рыгнули уже по второму разу. Мирза Кадргул погладил свою седую, клинообразную бороду и велел убирать большое глиняное блюдо с остатками вареной баранины. В настоящую минуту из рук в руки переходила чашка с крепким кумысом, мастерски приготовленным самою старою Хаззават. Кумыс этот пили небольшими глотками, иные цедили сквозь зубы, ухватившись жирными губами за края чашки. Красивый мальчик, лет четырнадцати, возился у тагана с кальяном, раздувая в его сетке горячие уголья.
Вокруг кибитки собралась большая толпа, и все старались протиснуться как можно ближе к решеткам, чтобы лучше слышать, о чем идет речь в жилище мирзы Кадргула.
– Так ты говоришь, что две тысячи кибиток? – спрашивал мирза Кадргул.
– Пожалуй, что и за третью хватит, – отвечал Юсуп. – Снялись, говорят, еще в прошлом месяце, теперь должны уже к самой Сырдарье подходить.
– Отступники! одно им слово, – заметил один из гостей, старый мулла Ашик. – И что их тянет к русским? Давно ли от них к Хиве перебрались, а теперь опять к ним перекочевали.
– А тогда другое было дело, тогда у них в Казале какой гусь начальником сидел!..
– Какой такой?
– Да совсем бешеный.
– Это Соболь-тюра, что ли?
– Да, он. От него и дальше Хивы забежишь. Мы слышали, в ту пору и русские купцы куда-то собирались откочевывать.
– Ну что же, хан как? – спросил опять мирза Кадргул. – Сердит очень, ведь ему это чистый убыток?
– Да, прибыли мало, да как их остановишь? силой не возьмешь. Ведь почти три тысячи кибиток, тоже свою силу имеют. Да опять же и с русскими не хочет ссориться. Сказано – не тронь, ну, он и не трогает.
– Да, – вздохнул мирза Кадргул на всю кибитку, икнул и протянул руку за кальяном.
– В Бухару послы русские приехали, – сказал мирза Юсуп.
– Что такое еще?
– Да мир настоящий затеяли. Музафар совсем в дружбу к ним лезет. На прошлой неделе еще, говорят, два конских вьюка золота отправил к ихнему губернатору.
– Эх! – вздохнул старый мулла Ашик, – не по нашим дорогам это золото ездит.
– Ну что же? всего себе не захватишь. Мир-то ведь велик, – заметил мирза Кадргул.
Кальян усиленно хрипел, переходя из рук в руки; угасающие уголья на тагане слабо потрескивали. В кибитке на несколько минут воцарилось полное молчание. Только слышно было, как тяжело дышала и перешептывалась толпа, вплотную налегшая на наружные решетки кибитки.
– Ну, что, – наклонился к хозяину Юсуп, – этот у вас как, не балуется?
Он показал на Батогова, мелькнувшего близко, почти у самых стен.
– Ничего, работник хороший.
– То-то, хороший, а вы его поберегайте, выкупу за него никакого не будет: простой сарбаз, об нем, чай, и думать позабыли русские, а он вам, ежели не слишком налегать будете, еще лет тридцать, как добрая лошадь, прослужит.
– Вчера в степь за верблюдами ездили, – начал мулла Ашик, – его тоже с собой брали, лихо на коне ездит, получше кое-кого из наших.
– Гм, – подумал Юсуп, – посади его на добрую лошадь, хоть на Орлика, да дай ему оружие хорошее, да и выезжайте, хоть по два на одного, тогда и увидите, что это за наездник. – Жаль вот только, – произнес он вслух, – что вера у них эта… Если бы его как есть в нашу перевести.
– А что? – спросил мирза Кадргул.
– Я говорю потому, – сказал Юсуп, – что он сам говорил мне как-то: «Я бы совсем в вашу веру перешел, мне уже теперь о своих и забыть-то надо, если бы только бить меня ни за что, ни про что перестали, да работы было бы поменьше, а то иногда не под силу приходится».
– Не под силу приходится, – проворчал за стеною киргиз-работник, – небось, нынче меня так об земь ахнул, что до сих пор бока ломит.
– На Соленых болотах, у Сайгачьего лога, болезнь какая-то на баранов пришла.
– Вот уже это беда наша совсем.
– В темир-каикских аулах колдуна зарезали.
– Это не желтого ли иранца?..
– Его самого. Всех четырех жен Курбан-бия перепортил. Сам бий почти целый год в отлучке был, приезжает, а они все вот какие ходят… – Юсуп показал рукою на аршин от своего желудка. – А там и посыпало!.. Одна так даже двух сразу.
Одна из жен мирзы Кадргула, красивая Нар-беби доставала из сундука, что стоял у дверей, какую-то одежду; услышав рассказ, она повернула свое толстое, краснощекое лицо и стала внимательно вслушиваться.
– Ну, а с женами что сделали?
– Да жены чем же виноваты? – заметил кто-то из гостей, – ведь это на них иранец ветром надул…
Нар-беби улыбнулась во весь рот, вся словно вспыхнула, и низко нагнулась над сундуком, выпятив на соблазн всей публики свои массивные формы.
– А что? – начал мирза Юсуп, – мы вот давно из аула не выходили. Перекочевывать придется еще не скоро. Нам бы хоть неподалеку куда проездиться.
– Да куда, разве опять на персидскую границу?..
– Далеко…
– Ну, на Заравшан к русским?
– Ну их! – поспешил заметить мирза Юсуп. – Народу всегда перебьют много нашего, а барыша совсем никакого: какую-нибудь пару казачьих лошадей, а то и совсем ничего, а по кишлакам там не много достанешь.
– Нет, вот я слышал, Садык с Назар-кулом хорошие дела делают…
– У них совсем другое дело.
Разговор на минуту прекратился. В кибитке стало совсем темно, и мирза Кадргул зевнул довольно громко, прикрыв рот рукавом своего халата. Около кибитки, где собрались женщины, только что подоившие кобыл и перелившие молоко в турсуки, слышалось что-то вроде песни и тихо бренчали струны сааза.
Батогов снимал на ночь попоны с двух верховых лошадей мирзы Кадргула и отчищал им копыта, усердно ковыряя тупым ножом засоренные подковы.
– Здравствуй, тюра! – раздался сзади него тихий голос.
Батогов обернулся. Юсуп стоял в двух шагах и смотрел вовсе не на него, а на челки лошадей, как бы рассматривая хитро заплетенные косички.
– Здравствуй, Юсуп, что хорошего? – сказал Батогов, и сказал так тихо, что, казалось, только сам себя мог слышать, и еще усерднее принялся за свое дело.
– Ну, теперь нельзя, а скоро хорошо будет, – произнес Юсуп, поглядывая небрежно вверх на звезды, и побрел дальше, сделав вид, что только так, мимоходом, завернул взглянуть на красивых жеребцов мирзы Кадргула.