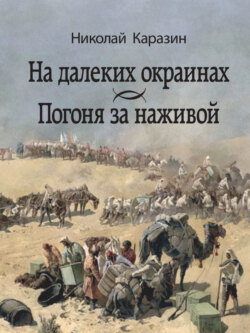Читать книгу На далеких окраинах. Погоня за наживой - Николай Николаевич Каразин - Страница 26
На далеких окраинах
Часть третья
II. Кого видел Батогов в соседнем ауле, когда ездили за камышом
ОглавлениеНочь была темная. Мало-помалу говор и шум движения затихли в уснувшем ауле. Чуть краснелись во мраке верхи открытых кибиток и у колодцев мелькала красная, мигающая точка небольшого костра.
Из степи доносились какие-то неопределенные звуки: то будто бы волчий вой, то будто бы рев и кряхтенье верблюда, то словно далекое ржанье лошади, то что-то еще, чего даже привычное ухо киргиза понять было не в состоянии. Что-то крылатое носилось в воздухе, мелькая красною точкою в то мгновение, когда оно налетало на тот чуть заметный столб красноватого света, который отбрасывали от себя еще не угасшие уголья на таганах1, внутри кибиток.
Верблюды тяжело вздыхали и, лежа друг подле друга, терлись своими облезлыми боками, лошади жевали ячмень, отфыркиваясь в торбы, кое-где слышен был человеческий храп. В соседней кибитке тихо, но бойко перебранивались между собою неугомонные киргизки.
Батогов сделал все уже, что было нужно, работа его дневная, наконец-то, была покончена, и он свернулся на своем войлоке, около той кибитки, которая предназначена была для работников. Около него с одной стороны спал киргиз-работник и бредил о чем-то во сне, с другой стороны сидел тот работник, что испытал на себе силу русского пленника, он зевал во весь рот и усиленно скреб себе ногтями давно не бритую голову, силясь отделаться от несносного зуда. В этих слежавшихся, прелых кошмах временем накопилось довольно-таки разных паразитов, и нужна была сильная усталость, почти изнеможение, чтобы заснуть, пренебрегая этим неудобством.
Батогову не спалось, несмотря на то, что он не сидел целый день сложа руки. Нет, с раннего утра он пешком ходил верст за десять в степь: надобно было пригнать оттуда двух баранов для хозяйского обихода, потом ездил он с другими за камышом, на полувысохшие соляные болота, что лежали на востоке верст за двадцать от стоянки. Вернулись почти к вечеру, да и тут еще четыре турсука воды надо было принести, а колодцы были неблизко. Лошадей надо было убрать в свое время, а потом старая Хаззават велела котел мыть, за которым вдвоем они провозились вплоть до самой темноты. Так после всего этого, кажется, мог бы уснуть утомившийся пленник, и никакие паразиты ему бы не помешали, но тут была причина этой бессонницы. Юсуп сказал ему: «Скоро дело делать будем». И эта короткая фраза вызвала у него целый ряд самых жгучих, самых лихорадочных дум. А тут еще другая причина оказалась. Когда ездили за камышом, пришлось проезжать мимо соседнего аула, в который Батогову до сих пор не приходилось заглядывать… Поехали, останавливались у одной кибитки: один из работников мирзы Кадргула дело имел к кому-то из здешних. Постояли, поговорили и дальше поехали.
Ничего особенного в этом ауле не было, аул как аул, такой же точно, как и ихний, те же кибитки, те же загоны, разве только то, что этот совсем спрятался в лощине, а их стоит на высоком месте, верст за пятнадцать в хорошую погоду видно. Но Батогов успел заметить в этом ауле то, на что, казалось, не обратили вовсе внимания его спутники.
У одной из кибиток, стоявших несколько поодаль от прочих, полы были совсем закинуты наверх, тростниковая загородка (так называемая «чии») была снята и лежала в стороне. Она была сильно изломана ветром, налетевшим накануне, и ее, должно быть, собирались чинить. Сквозь крупную решетку видно было все, что делается внутри этой кибитки. Там сидело несколько женщин, они заняты были плетением громадного пестрого ковра. По их костюмам, по довольно чистым, белым тюрбанам, навороченным на головах, по бусам, украшавшим их потные шеи, наконец, по медным серьгам, вдетым, по туземной моде, в ноздри, и по тому свободному говору и смеху, который раздавался в кибитке, заглушая даже стук катушек, намотанных цветною шерстью, можно было видеть, что тут были все госпожи, хозяйки; рабынь между ними не было. Женщины взапуск жевали изюм и щелкали фисташки и другие подобные сласти, не давая отдыха ни своим языкам, ни своим белым, ярко сверкавшим при каждой улыбке челюстям.
Их говор и смех заставил Батогова повернуть голову, но не они остановили и сосредоточили его внимание.
Снаружи, на самом припеке, в стороне от той тени, которую отбрасывала от себя кибитка, стояла женщина, еще молодая, должно быть, очень красивая, если можно было отыскать бывшую красоту в этом бледном, истощенном лице, в этих впалых глазах, окруженных темною синевою… Грязная, изорванная холщовая рубаха до колен – единственный костюм этой женщины – едва прикрывала ее изнуренное тело. Это тело, худое, слабое, было совсем другого цвета, чем бронзовое, словно дубленая кожа, киргизок. Несмотря на слой грязи, несмотря на сильный загар, можно было видеть, что это было белое тело.
Эту нельзя было назвать хозяйкой, эта была то же, что и Батогов.
Не трудно было убедиться в этом, глядя, как ее тонкие руки устало, как бы нехотя, приподнимали и опускали тяжелый деревянный пест, которым она толкла просо, засыпанное в высокую деревянную ступу.
Когда она приостанавливалась и бросала на минуту свою тяжелую механическую работу для того, чтобы обтереть с лица пот рукавом своей рубахи, или же поправить рукою свои растрепанные, длинные, черные, как уголь, косы, из кибитки тотчас же возвышался визгливый, злой голос, кричавший:
– Ну, ты там, дохлая кляча, не хочешь ли лучше совсем бросить? Только бы спать, ленивая сволочь.
А другой голос добавлял:
– Только и дело делают, пока их колотишь. Я об свою совсем все руки обколотила…
Больно кольнуло в сердце Батогова при взгляде на эту работницу, и эта новая боль совсем заглушила его прежние страдания.
– Не я один, – думал он, – может быть, в каждом ауле найдется такая же, как она, такой же, как я, горемыка.
Ему хотелось подъехать к ней поближе, хотелось заговорить с нею. «Она, верно, заговорит по-русски», – думал он, хотелось расспросить ее о многом…
Он видел, как широко, изумленно взглянули глаза несчастной, когда топот проезжавших лошадей заставил ее поднять голову. Ему показалось даже, что эти глаза узнали его, если не его лично, то, по крайней мере, догадались, что видят перед собою товарища, брата по одинаковым страданиям…
– Ну, ну, отставай! – крикнул на него киргиз, ехавший сзади, крикнул и чем-то замахнулся.
– На девок заглядывается тоже, – заметил другой и засмеялся сквозь зубы.
Когда пришлось возвращаться назад, Батогов пристально, с сосредоточенным вниманием присматривался кругом, ко всем группам, мелькавшим между кибиток, ко всем отдельным фигурам, занятым каждая своим делом. Он думал опять увидеть ту же женщину, ему хотелось опять взглянуть на нее, но сколько он ни глядел, приподнимаясь на высоких стременах своего седла, высовывая голову из-за громадных снопов камыша, привьюченных с обеих сторон его лошади, он не видел никого, хотя сколько-нибудь похожего на эту страдалицу.
Да видел ли он ее? Может быть, это воображение, больное, расстроенное, нарисовало ему этот призрак?.. Нет, вот та самая кибитка, вот и ступка стоит на том же самом месте, вот пест лежит… А вот и еще что-то лежит, маленькое, скорченное, покрытое с головою какою-то рваной конской попоной, лежит и тихо стонет…
Вот об этой-то встрече и думал теперь Батогов, лежа врастяжку, навзничь, закинув руки за голову, неопределенно уставясь глазами в темное ночное небо, по которому, из конца в конец, беспрерывно черкали блестящие падающие звезды.
Кто она? откуда? Давно ли томится здесь, оторванная от всего, что только было ей близко?.. Эти вопросы больше занимали голову Батогова, чем даже фраза его Юсупки, снова вызвавшая томительные иллюзии близкого освобождения.
Как узнать все это, как отыскать ее, у кого расспросить об ней, если не придется ее увидеть снова? А как хотелось ему опять увидеть это страдальческое лицо!.. Если бы Батогову предложили на выбор – или бежать сейчас, или же отложить побег еще на целый год, но зато в это время обещать ему возможность видеть и говорить с пленницей соседнего аула, – он не задумываясь выбрал бы второе.
– Разве попросить Юсупа: он все узнает, ему это так легко устроить, он мне расскажет, – решил, наконец, Батогов, и с этим решением он стал дожидаться утра.
Он отполз подальше от общей кошмы, на которой спали работники.
– Ты куда это? – спросил его рядом лежащий, и спросил таким голосом, что Батогов сразу не догадался, ему ли это говорят, или же он слышит бессознательный бред спящего.
Он снял с себя рубаху, сильно встряхнул ее и надел снова. Он лег прямо на песок, потерся об него немного сильно чесавшимся телом, и скоро его начала одолевать тяжелая дремота.
– Ты чего это ушел-то? – снова слышится тот же голос. Батогов не отвечал.
Темная фигура приподнялась, пристально на него посмотрела, приподнялась еще больше и разом запрокинулась навзничь.
– Эк стерегут как, черти! – подумал про себя Батогов, – и что им за прибыль такая?.. Тоже ведь рабочая скотина, как и я… – И он начал притворно храпеть, чтобы избавиться от дальнейших расспросов.
Чуть-чуть рассветало, а уже половина аула была на ногах, даже сам мирза Кадргул выглянул на минуту, заспанный, из дверей своей кибитки, выглянул больше для того, чтобы показать, кому следует знать о том, что хозяин уже проснулся. Заспанное, немного сердитое лицо мирзы снова скрылось за узорною кошмою, и дверь плотно опустилась на свое место.
Батогов увел хозяйских жеребцов к колодцам, и опять не один, а с другими. Он захватил с собою и лошадей мирзы Юсупа, который, не выходя из кибитки, закричал ему:
– Эй ты, захвати и моих с собою, все равно за одним разом ходить к колодцам…
Юсуп выругался при этом, да так обидно выругался, что все работники расхохотались, услышав такое хорошее слово.
– Ах ты, свинья эдакая, – подумал Батогов и пошел отвязывать лошадей мирзы Юсупа, погладив при этом своего Орлика, который весело заржал при приближении пленного.
Умная лошадь всегда приветствовала Батогова ржанием, привычка, которая весьма не нравилась мирзе Юсупу, привычка, на которую как-то подозрительно смотрели заметившие это обстоятельство работники.
Спустя полчаса после того, как угнали лошадей к водопою, Юсуп вышел совсем одетый и вооруженный, словно в дальнюю дорогу, сердито поглядел кругом, словно отыскивая кого-то глазами, и проговорил громко, так что во всех концах аула слышали:
– Ишь ты, собака паршивая, сколько времени у колодцев толчется!
– Да ты, мирза, куда собираешься, что ли? – спросил Кадргул, не выходя из кибитки.
– Тут, неподалеку, в аул к Ахмету надо съездить, – отвечал Юсуп. – Пойти разве навстречу? – произнес он как бы про себя и быстро зашагал к колодцам, над которыми, несмотря на утреннюю росу, стояла густая пыль, и в этой пыли смутно сливались рев верблюдов, ржанье лошадей, унылое блеяние овец и громкие отдельные возгласы погонщиков.
Небольшая вереница всадников выделилась из этого пыльного облака, то были наши работники, которые маленькою рысцою вели лошадей с водопоя.
Мирза Юсуп шибче зашагал им навстречу.
– Эй ты! – крикнул он Батогову, когда они поравнялись, – давай лошадей сюда!
Батогов свернул немного в сторону, остальные работники поехали шагом, однако все-таки поехали, а не остановились вовсе, и на несколько минут Батогов очутился совершенно наедине, глаз на глаз, со своим преданным джигитом.
– Поверни сюда лошадь! стремя подержи! – кричал он громко. – Слушай, тюра, – произнес он почти шепотом, Юсуп весь разговор вел довольно оригинально: то говорил тихо, едва слышно, то кричал так, что его за версту все могли слышать, при этом он сильно жестикулировал руками и раза два, ни с того, ни с сего, замахивался нагайкою. – Слушай, тюра, через три дня мирза Кадргул опять на персидскую границу выступает, тебя хочет взять с собою, не езди… Да держи же повод крепче, чертова голова… Скажи, что болен, ногу обрежь себе, что ли… Ах ты, собака паршивая!.. А я поеду: мне надо. Здесь меня дожидаться будешь… И как это тебя не бить, скота эдакого!.. Новая луна как поднимется, тогда дело делать будем, я все уже узнал, что нужно, и дорогу нашел настоящую… А этого хочешь! – Юсуп с размаха ударил нагайкою по седлу. – Я этого и ездил эти две недели, – добавил он тихо.
Джигит медленно, с достоинством, взбирался на седло, Батогов, подавая ему поводья от другой лошади, успел сообщить ему в это время о той женщине, которую встретил в соседнем ауле, и просил Юсупа узнать об ней все, что только было можно.
Подозрительно поглядел Юсуп на своего тюра, сказал, что узнать можно, что узнать, пожалуй, не трудно, да только время ли о чужой голове думать, когда свою поскорее уносить надо… Выругал еще раз громко Батогова, примерно ткнул в загривок и с места в карьер поскакал в сторону, долго еще мелькая вдали своим красным халатом. А Батогов побрел пешком в аул, где уже поднимались высокие столбы дыма: там варили баранью шурпу (род похлебки) на завтрак проголодавшимся джигитам.
Днем Батогов не видал своего Юсупа: он целый день пропадал где-то и только поздно ночью вернулся в аул мирзы Кадргула.
Весь день нетерпение мучило бедного пленника. Недаром так болезненно отозвался на нем тот страдальческий взгляд, которым встретила его работница в соседнем ауле. У него сердце сжалось от какого-то странного предчувствия. В его мозгу копошилась страшная догадка.
Этот день так же монотонно прошел, как и другие, и когда ночью мирза Юсуп, проходя мимо Батогова, сказал ему: «Юсупка все узнал. Будет завтра случай, и тюра все узнает», то Батогов, совершенно забывшись, рванулся к нему с расспросами, но тотчас же опомнился, увидя, как его Юсупка спокойно пошел дальше, не обращая никакого внимания на волнение Батогова.