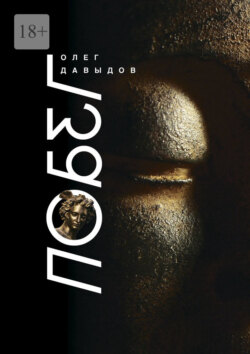Читать книгу Побег. Роман в шести частях - Олег Давыдов - Страница 4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I. С трепетом приступаю
ОглавлениеБыл теплый майский вечер, особенно прекрасный после изнуряющего дневного жара. Вечернее оживление беспечных гуляк – их хитрые маневры, косые значительные взгляды, нечаянные улыбки и нарочитые небрежности… Воистину бульварный мирок представляет нам целое мира в мельчайших деталях, и возможно, бульвар изначала задуман как всенародный театр (а театр и должен отражать собой целое мира), – задуман, как театр, в котором ты можешь воображать себя (зависит от темперамента) зрителем или актером. Здесь есть и скамейки, и сцена; но нет режиссера, что, с моей точки зрения, пожалуй, и к лучшему, ибо без режиссерских затей – наивнее и безыскусней. Скажу более: вот этой своей непритязательностью бульвар даже предпочтительнее настоящего театра, где актеры вынуждены следовать чьим-то убогим замыслам.
Впрочем, здесь я слишком уж перегибаю палку и слегка, наверно, в чем-то не прав. На это есть причины: дело в том, что на бульваре я в тот вечер очутился как бы даже и не своей волей – я бежал туда из театра, где смотрел пьесу под названием «Бег». Я был просто раздосадован и ушел после первого же акта, покинув Томочку Лядскую, которая и вывела меня в театр в порыве благотворительности, – ушел и, сидя на бульваре, размышлял: зачем нужны все эти ухищрения (например, Богоматерь на сцене вместо декорации), когда вот без всяких декораций люди превосходно разыгрывают?.. и т. д.
О, вы не думайте! – я отлично понимаю, что это очень символично, но…
Но особенно символично это для моей истории! Не знаю, приходилось ли уже читателю толковать мир и события в мире? – толковать, как толкуют сны. А вот мне ничего другого и не остается, ибо – вы должны узнать это заранее! – я очень плохо отличаю бред от всякого рода реальности.
К примеру, сегодня ночью (то есть после побега из театра) я увижу, бредя по бульвару с одним человеком, как темное небо на востоке вдруг как бы озарится агатовым мерцанием, и в этом мерцании станет заметна черно-стального цвета воронка, направленная жерлом ко мне. Может быть, в голове моей успеет промелькнуть какая-то мысль… – каждый ангел нам страшен! Но тут из воронки порхнет гигантская бабочка, закрывая крыльями небо, переливаясь фиолетово-черными брызгами этих распахнутых крыл. Она порхнет и начнет приближаться, танцуя, и по мере ее приближенья мерцание в небе померкнет, а бабочка, все уменьшаясь, достигнет меня и мелькнет уже серым ночным мотыльком между нами – мною и тем человеком.
Что сказать об этом, читатель? Что вы на это скажете? Реально ли это? Реально или не реально, а у меня только один путь – все толковать. Ибо ведь как-то же надо разбираться в мире. Но уверен, что странные вещи вы тоже толкуете миру! Вот как бы вы, скажем, истолковали такое событие? – следующий сон мира:
Как-то, незадолго до начала тех событий, о которых здесь повествуется, я вовремя не заплатил за телефон, и его отключили. Отключили и ладно, и он не работал две недели, – и я от него уже даже отвык… Но однажды под утро, когда я еще сплю, вдруг раздается телефонный звонок. Поднял трубку:
– Слушаю?
– Евгений Юрьевич? – смелый женский голос.
– Кого вам?
– Министра финансов.
– Если бы вы только знали, – отвечаю ей, – насколько я сейчас не министр и тем более не финансов.
– Странно! – и короткие гудки…
Вы спросите: а что ж тут толковать? – обыкновенная ошибка. Конечно, дорогая моя, – но ведь сон, пожалуй, как раз и можно определить как комедию ошибок. Здесь, во-первых, телефон – почему он вдруг включился? – это ведь прямо весть о вести; во-вторых, сама эта весть – меня приняли за министра финансов, что, впрочем, не грубая ошибка, ибо (вы увидите) я мог бы им оказаться, если б не дорожил своей прекрасной свободой.
О чем же я буду сейчас говорить – о свободе или о финансах? – то и другое так и напрашивается, ибо свобода и финансы – суть неизбежные и неотъемлемые черты моего автопортрета. Однако, воспользовавшись своей свободой, я уклонюсь временно от финансов и расскажу – как все-таки истолковал этот «сон» с телефоном. Финансы – это что? – слово в своей основе указывает ведь на какой-то конец – финал! – окончание чего-то, подведение итогов, расплату. Ну а министр – это, конечно, что-то вроде слуги (такова этимология). Понятно, что словосочетание «слуга конца» и двусмысленно, и одиозно; но ведь это и «служба расплаты», и «служение чему-то завершающемуся», и «обслуживание скончавшегося» и многое другое. Не забудем также телефон – связь. Потом, какой-то Евгений Юрьевич – не знаю, действительно ли это имя нашего министра, но ведь это значит Благородный Георгий.
Но знаете, читатели, – я забегаю вперед! – признаться, мне тогда не удалось по-настоящему истолковать этот звонок. Потом-то уж другое дело, потом он как-то сам собой стал понятен. Вот и не стоит спешить – тише едешь, дальше будешь.
Я сказал, что в театр меня вытащила Томочка Лядская – по всей видимости, чтоб хоть несколько просветить и пообтесать, потому что в то время принимала черт знает за что, за какого-то монстра в человеческом облике (это не совсем верно). Впрочем, виделся я с ней тогда всего третий раз в жизни – но не последний! – мы успеем еще друг друга узнать. Ясно одно: она девушка бойкая – хоп, и мы уже в театре, а до этого успели побывать в одном незнакомом доме…
Но эту историю отложим до следующей главы, пока же меня беспокоит вопрос: с чего, собственно, начать свое повествование? Пусть не покажется вам слишком банальным то, что я сейчас скажу: мне хотелось бы его начать именно с начала, то есть с такого места, которое было бы подлинной точкой отсчета, а не условностью вроде Парижского метра или Гринвичского меридиана; но поскольку такой абсолютной точки я сейчас еще не вижу (глубок колодец прошлого), читателю самому придется высчитывать ее, исходя из того теплого майского вечера и скамейки на Тверском бульваре, где я сейчас сижу, наблюдая за молодым человеком, похожим на Марлинского.
– Простите, можно рядом присесть? – прервал мои театральные инвективы грузный мужчина с пачкой газет под мышкой.
– Бога ради! – я было хотел уж уйти и отсюда, ибо от него несло перегаром (что предвещало пьяные разговоры), и уже сделал движение встать, когда заметил, что прыщавый юноша, сидевший напротив, поправил очки, поднялся и решительно направился к девушке, читающей книгу, – девушке, которую он все высматривал из своего угла. Я остался и закурил, ибо этот прыщеносец и вправду поразительно напоминал Марлинского, моего старинного приятеля. Чертами лица – почти один к одному, да к тому же – те же прыщи, та же походка и хватка, наверное, та же. Собственно, хватка меня и занимала, ибо я как раз подумал, что, быть может, можно найти в характере этого юного Марлинского объяснение некоторым странностям моего нынешнего Марли. Если угодно, я хотел использовать юношу как модель.
– Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля, – послышалось слева, где грузный человек читал газеты. Я посмотрел в его сторону – пузатый пьяный дядя, брезгливо морщась, мусолил «Крокодил».
– Мне не смешно…
– Что? – спросил я.
– Я говорю – вот читаю «Крокодил».
– Аааа! – и я опять отвернулся и стал смотреть на сцену.
– Смеху на десять копеек, – продолжал пузан, – между прочим, моя фамилия Смирнов. Смирнов, но не Смирнов – понимаете? – не смирно, а Смирна…
– Очень приятно…
– И я каждый раз, как прихожу в киоск, прошу: «Дайте мне смеху на десять копеек», – и понимают. – Он захохотал. – А что вы здесь сидите? – продолжал он. – Тоскуете по прекрасной незнакомке? Да-с, я тоже, бывало как помоложе, выйду… весной! – женщины, – глаза разбегаются. Даа, – а сейчас не то… И он замолчал.
Я смотрел на Марлинского, на юную читательницу, которая уже что-то такое стала ему отвечать, и думал, как бы это отвязаться от приставалы, который ведь сейчас пустится в воспоминания.
– А знаешь что? – вдруг предложил он, – давай-ка выпьем – у меня здесь неподалеку есть! – понимаешь? – что-то нехорошо. Не откажи.
Жизнь, как и литература, слишком мало считается с нашими желаниями и вкусами. Я, например, очень бы хотел прожить свою жизнь, как прослушивают какую-нибудь симфонию или, может быть, оперу, – сидя в удобном кресле где-нибудь в партере, поглощенный звучанием, развертывающимся передо мной, как свиток. И очень было бы хорошо, если бы эта музыка, была музыкой эпохи барокко, чтобы это был какой-нибудь Бах или Моцарт, а не Лист и не Шопен и тем более не Стравинский и никак не Шёнберг и не Веберн. Но пусть даже, на худой конец, это будет Шенберг – я согласен – только пусть не вытягивают меня на сцену в качестве Пьеро, Петрушки или же Фигаро. Не трогайте меня, я хочу слушать – вот единственное мое желание, – но, повторяю, как же мало считается наша жизнь с нашими желаниями: ей хочется, чтобы мы действовали – и здесь больше нечего сказать.
Но во всяком случае, если невозможно остаться «незаинтересованным» слушателем, хорошо бы прожить персонажем… – не романа (избави бог!), – но оперы. Как бы я хотел быть оперным мужиком, читатель, – если бы ты только знал! – как бы хотел, чтобы из этих моих записок получилась полноценная опера. В опере совсем иные законы жизни. Там вначале увертюра – то есть вначале там даются выдержки из книги судьбы и герою можно быть героичным – он уже знает свой путь, может оставить мелочные беспокойства насчет своего будущего и поступать, как велит ему долг, – то есть как заблагорассудится.
Романный герой мечется из стороны в сторону и не знает, что ему делать, – в этом специфика романа как жанра.
Поскольку я живу свою жизнь, не зная, что к чему, я переживаю роман; но поскольку я пережил этот роман – и теперь пишу лишь записки о нем, – я пишу оперу. Для оперы нужна увертюра, так вот, читатель, – пусть этой увертюрой послужит вот тот самый первый, предваряющий мою историю отрывок про овечек – отрывок, из которого ты (несмотря на то что он, может быть, написан несколько взбалмошно), – из которого ты извлечешь, если захочешь, основные темы моего повествования.
Если же ты иного, чем я, мнения о романе или опере (например, думаешь, что это эпос), – не смущайся: на этих страницах и вообще много такого, что будет для тебя неприемлемо. Ничего! – ведь я и начал с того, что сказал: «Жизнь, как и литература, слишком мало считается с нашими желаниями и вкусами».
Конечно же, я понимал Смирнова, но пить с ним…
– Что ж, идемте, – сказал я вдруг, неожиданно для себя, и мы пошли. Я еще, сожалея, оглянулся назад и увидал, что молодые уже о чем-то горячо спорят…
И вот мы на Кропоткинской у Смирнова: это была мастерская, а хозяин (что очень плохо согласуется с внешностью) оказался вдруг художником и очень порядочным человеком. Огляделся – страшный беспорядок: столы, заваленные кистями, красками, испачканными тряпками и ножами, сваленные в кучу доски и рулоны холста; подрамники, багеты и картины по стенам, кругом картины. Но первое, что меня привлекло, была полка с кучей всякого рода странных безделушек, в изучение которых я тут же с удовольствием и погрузился: брал в руки, вертел, взвешивал, пробовал на ощупь. Для меня истинное наслаждение копаться вот в таких вот беспорядочных коллекциях – в этом случайном беспорядке всегда есть какая-нибудь скрытая закономерность, много говорящая о (а Смирнов уже начал интересовать меня) хозяине.
Сейчас мне вспоминается всего несколько вещиц: английская тарелочка неправильной формы, на которой изображена сцена охоты среди причудливого пейзажа; китайский китч: изумрудно-зеленый лев, похожий на жабу, опирается на малиновый шар – точилка для карандашей (made in china); несколько павлиньих перьев; спилы с каких-то полупрозрачных камней; серебряная нашейная иконка-складень – Богоматерь одигитрия со сбитыми эмалевыми ликами; испорченная зажигалка фирмы донхил – стильное ретро; гипсовый нос Микеланджеловского Давида; щегольский бронзовый подсвечник на мраморном основании со стеариновой свечой; карманные часы с выгравированным на крышке сюжетом из популярной песни Высоцкого «Охота на волков»; какие-то разнообразные керамические кувшинчики, и прочее, и прочее…
Напоследок я оставил то, что заинтересовало меня более всего, – костяную, размером чуть больше грецкого ореха, фигурку японского болванчика. Отличная вещь! – как ни крути, она оказывается всегда точно по ладони. Божок сидел на моей руке, подобрав под себя левую босую ногу, – согнувшись так, что подбородком опирался на поставленное и обеими руками поддерживаемое правое колено. Поверх узорчатого кимоно были аккуратно сложены покрытые чешуйками крылья, волосы с лысого лба откинуты на плечи. Злобная, смешная, гнусная и одновременно печальная несколько детская рожица; морщинки вокруг шишки на лбу; маленькие навыкате глазки, смотрящие в разные стороны; огромная бульба носа и тонко прорезанная щель рта без верхней губы в обрамлении жиденькой бородки; плюс еще приплюснутые уши; а на макушке – то ли шапочка, то ли пук волос.
Давно уже кем-то из умных людей сказано, что, если в первом акте на стене висит ружье, в последнем оно обязательно выстрелит; и я не стану скрывать от читателя, что, если сейчас взял в руку эту статуэтку, в свое время она сыграет определенную роль в моей повести. Говорю это именно для того, чтобы заинтриговать читателя, – ведь на первых порах может показаться, что все происходящее здесь – просто набор (вот такой же, как у Смирнова) ничего не значащих случайных событий, – а значит, и не событий вовсе. Да и впрямь, может поначалу показаться (ведь всякое начало трудно!), что здесь вообще ничего не происходит. Это не так – уже вовсю происходит – своевременно мы это поймем.
Я еще повертел фигурку в руках – просто даже было искушение сунуть ее в карман (и кто знает! – возможно, это было бы лучшим исходом). Но все же сдержался, поставил божка на место (божок, казалось, остался недоволен этим), – поставил и отошел разглядывать картины.
– Что, нравится? – сбрасывая со стола мусор, спросил Смирнов.
Как вам сказать, читатели! – по стенам висело несколько натюрмортов, какой-то сельский пейзаж, странные эскизы, на которые я поначалу вовсе не обратил внимания (ибо стояли они в стороне), а на мольберте – незаконченный портрет молоденькой девушки. Мало сказать, что эти работы понравились мне. Необычный, напряженный, какой-то изматывающий колорит волновал!
Все-таки огромная редкость такое – что ни говорите, – огромная редкость! Мне по крайней мере, не приходилось видеть у ныне живущих такого; я даже не предполагал, что такое возможно в наши дни. Поверьте, уж я изощрил свой глаз разглядыванием, даже изучением, всякого рода живописи… Да что там скромничать! – я ведь, можно сказать прямо, знаток, причем не такого рода знаток, который в упор ничего не видит на холсте, как большинство из наших любителей, но – тонкий знаток психологии картины; внутренних возможностей ее роста, ее мощи или немощи – отгадчик ее судьбы. Я это говорю затем, чтобы вы поверили: Смирнов – редкостный художник, а тому, что я знаток, можете и не верить (если не имеете представления о том, что это значит!).
– Да, конечно, – сказал я, – нравится, особенно вот это, – и указал на небольшой натюрморт, где были изображены рыбы и кувшин. Это была, впрочем, единственная вещь, которую я бы согласился иметь у себя дома, – она была самой спокойной и самой удобоприемлемой: узкогорлый кувшин и два сушеных леща в теплых охристых тонах. Все другие… я бы не внес их к себе – они были слишком нервны и слишком нервировали. Представь, читатель, – у тебя висит на стене такая картина. Ты смотришь на нее – она тебе нравится, она тебя возбуждает и воодушевляет. Но пройдет несколько дней или месяцев, и ты к ней неизбежно привыкнешь – ведь это действительно неизбежно! – но вместо того чтобы превратиться в нейтральное цветовое пятно – красивое и незаметное – она начнет выпускать псевдоподии (или метастазы – как больше нравится?), и ширять тебя, и ставить тебе подножки, и раздражать – потому что в ней, в этой картине, слишком много энергии, слишком она истерична и слишком много внимания требует к себе, слишком любит поклонников. Это вроде того, как мила и интересна новая женщина, однако ко всему привыкаешь, и тогда одна делается тиха и незаметна – просто потому, что у нее такой характер (это лучшая жена, читатель), – а другая начинает устраивать вам истерики, плачет, ревнует, становится невыносима.
– Я не говорю, что это лучшая, – продолжал я, – лучшая здесь, пожалуй, вон та…
– Правильно, – сказал он, насмешливо меня разглядывая.
– …Но эта самая спокойная и уравновешенная.
– Правильно, – сказал он, – давай-ка лучше выпьем.
И мы выпили. Коньяк всегда благотворно на меня действует. Я почувствовал, как открылись поры внутри, глаза увлажнились, лицо смягчилось и засияло. Я стоял у окна, смотрел вниз и думал о несчастном с бульвара – такой молодой, искренний, прямо как я или тот же Марлинский когда-то.
– Да брось! – все это ерунда, – сказал вдруг Смирнов.
– Что?
– А то… картина, собственно, ничего не значит. Пишешь ведь не ради нее самой – чтоб была картина. Просто смотришь, куда пришел. На правильном ли пути! Это же интересно, правда? – в какую сторону идешь. Вся эта живопись только для того, чтобы ориентироваться, понимаешь?
– Так уж и вся?
– Ну, может, не вся – это не важно… Выпьем. – Мы выпили, помолчали… – Слушай, я хочу сделать твой портрет, – сказал Смирнов, – у тебя интересное лицо…
– Да?
– Нет, правда, – я тебя не очень разглядел вначале, а сейчас… – ты мне что-то такое напоминаешь – из старых мастеров…
– Боюсь, ничего не получится…
– Это еще почему? Я как раз сейчас занимаюсь портретами. – И он подвел меня к мольберту, где была изображена девушка (я уже говорил). Вот это так действительно интересное лицо: в золотистом кружеве волос угловатые, резкие (возможно, даже грубые) черты складывались в удивленную улыбку – фон для ускользающих, испуганно убегающих глаз, – глаз, в преследование которых я тут же погрузился. Погрузился, влип и никак уже не мог от них освободиться.
– Кто это?
– Да разве это важно? – ты посмотри, как написано! Ну что, порешили?
– Посмотрим.
Ну и так далее, читатель…