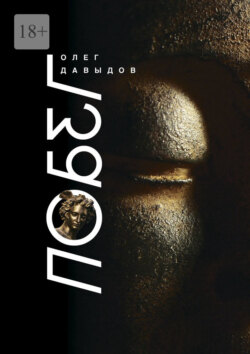Читать книгу Побег. Роман в шести частях - Олег Давыдов - Страница 9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава VI. Мы, боги
ОглавлениеВ понедельник вечером я спешил на свиданье со своею червонною страстью, дамой сердца, назначившей после игры мне встречу где-то у «Рижской», – спешил, целиком, значит, был погружен в предвкушения… но – хотя с запасом успевал и вскоре заключил бы уже свою пассию в… – но! – судьба распорядилась иначе.
На «Колхозной» я вошел в вагон и сел, а на следующей станции вошла молодая женщина. Она посмотрела на меня своими маленькими, чуть косящими глазками и стала к двери. Мне показалось, что она беременна, поэтому, сделав знак рукой, я предложил ей свое место, отошел в сторонку, исподтишка стал изучать ее лицо: маленькие глаза, тщательно вылепленный нос, тонкий подбородок – все было маленьким на этой змеиной головке, только губы крупные, прямо мускулистые. Это была вылитая тетка (моя родная тетя, читатель, – тетя Гарпеша), – и я подивился странной игре природы.
Она достала вязанье, уселась поуютней и углубилась в работу: считала петли, шевелила губами, поправляла путающуюся пряжу, красиво играла спицами.
Все, конечно, видели, как вяжет женщина, – это похоже на работу паука, выделяющего из себя паутину и ткущего кокон. Как бы из себя выделяет такая женщина нить, которой вяжет, и, сплетая свою сеть, сосредоточена она на работе так, что забывает все. На губах ее играет страдальческая улыбочка, будто с трудом натягивает она свой кокон на что-то неподатливое, кого-то улавливает в свою ловчую сеть; и нет ничего удивительного в том, что она получает подлинное удовлетворение от этого труда (охота ведь пуще неволи!).
Она излучала собою особые нежные волны покоя, эта юная женщина, – работала как генератор прямой убежденности, убеждавший меня, что в мире идет все как надо и не надо ничего иного. Я чувствовал, как ритм моего сердца подчиняется ритму ее вязания, и я забываюсь, плыву…
Я снова взглянул на эту продолжающую спокойно вязать женщину… но теперь на лице у нее оказалась холодная мертвая кожа – совершенно почти дермантин, – и точно в меня был уставлен тупой, плексигласо-недвижимый взгляд манекена. Внутренность моей утробы шевельнулась, предвещая тошноту. Да что ж это!? Не сводя с меня кукольных глаз, она собирала вязанье – поднялась и прошла мимо к выходу.
– Станция Таганская.
Как так?! Я оглянулся – и вправду Таганка, но как можно попасть, сюда, когда едешь с Колхозной на Рижскую?
Я выскочил на перрон вслед за мнимой беременной, – мнимой, ибо я понял, что вовсе она не беременна, – просто складки свободного красного платья обманули меня.
Все нам являющееся является либо извне нас, либо изнутри, либо являющееся извне оформляется изнутри. Впрочем, возможно еще, что являющееся изнутри оформляется извне.
Представьте себе какой-нибудь ваш благородный порыв: вы видите беременную женщину и уступаете ей место. Во-первых, от кого она беременна, читатель? – не от вас ли? И что за бремя она несет? – не освобождаю ли я ее от этого бремени, уступая место? То есть: «Тебе я место уступаю – мне время тлеть, тебе»…
Но прости меня, читатель – прости, ибо я отвлекаюсь в сторону, отвечая сразу и за себя, и за того парня, который, сам будучи читателем, только что уступил место этой беременной женщине – порыв души явился изнутри, но его место занял кто-то извне, кто-то другой, кто-то третий! – кто же? – кто тот третий, что так грубо вмешивается в наши интимные отношения, кто встает вместо тебя, когда ты хочешь посадить женщину? – кто он, в конце концов, тот, кто оформляет сокровенный твой порыв, идущий изнутри? – конечно же, ребенок! – это он опередил тебя, благородный читатель, определив твое поведение – и ты остался с носом при всем своем благородстве, ибо он провел тебя за нос, этот малыш, явившийся изнутри, и твое благонамеренное поведение полностью оформлено этим внешним обстоятельством.
Впрочем, был ли мальчик? – с горьким вздохом спрашивает писатель, и я отвечаю в порыве цинической откровенности, что это не имеет ровно никакого значения в моих глазах – не имеет значения, откуда идет порыв и где он оформляется, ибо всегда происходит только то, что происходит – и именно поэтому не происходит ничего; все двусмысленно, читатель, и нет ничего одномысленного под Луной – вот вам моя теоретическая философия, выстраданная, так сказать, «опытом всей жизни», – на практике же это должно означать (пользуясь афоризмом Козьмы Пруткова) примерно следующее: «Если ты на клетке со слоном вид надпись: „Тигр“, – не верь глазам своим».
К несчастью, сейчас я был в метрополитене, а не в зоопарке. Я спешил на «Рижскую», а надпись на стене гласила: «Таганская». Минуту назад у женщины было привлекательное лицо, и вот уже на его месте – неживая маска. «Чему после этого верить, как жить в таком мире?» – возопил я, стоя среди водоворота толпы, бушующего здесь в этот час.
Но вот вдали, у эскалатора, я заметил фигуру в красном платье – нет, нельзя это так оставлять! – и, как ищейка, взявшая след, я пустился в погоню. Вскоре мы оказались на паперти церкви, стоящей неподалеку от высотного дома, где кинотеатр «Иллюзион», – над рекой.
Это очень красивая старая церковь, ее кресты и купола всегда напоминали мне то ли антенны наставленного в небо радиотелескопа, то ли энергетическую установку – во всяком случае, это было странное место. Но дальше пойдет уже такая бессмыслица, описывать которую я просто стесняюсь. Если все другое в этой повести, как бы дико оно ни выглядело, я еще могу себе объяснить, могу хоть как-то истолковать, просто могу по-человечески понять, то дальше будет стоять эпизод совершенно не интеллигибельный для меня, обидный нарочитой обыденностью своего нелепого содержания и при этом обставленный, словно бы какая-то мистерия. Выпустить бы его, потому что не известно, какое отношение он имеет ко всему остальному, но я ведь уже попал на Таганку, и обратного хода мне нет. Читатель, надо пройти через это, чтобы вновь выйти на прямую дорогу повествования. Ну вот, с этим довеском я еще могу сообщить, что на паперти тетка обернулась ко мне и все с тем же недвижным лицом, шевеля лишь одними губами, сказала:
– Быстро руку.
Я машинально протянул, и, когда в сгустившихся сумерках (а было ведь рано) ведьма взяла мою руку, повернула ее вверх ладонью, стало видно, как сияет неоновым светом вся мелко-расчлененная сеть моей судьбы.
– Ну, что там?
– Плохие сосуды, – пробормотала она, – брось курить…
– Это все? Но что меня ждет?
– Кто!.. – она хмыкнула мерзко. – То же, что всех, если не бросишь! О, этот мир ждут потрясения. Каждый глоток дыма – погибель, – она опять хмыкнула, – всеобщая гибель…
– Вы хотите сказать… – начал я.
– Ничего не хочу!.. Я вижу огонь, питающийся вашими городами, и вашу землю, раздираемую в клочья когтями, и вселенную, лопнувшую, как пузырь… и тебя больного, пожирающего собственные испражнения, глядя на ужасы вселенских катастроф, и уже ничего не способного сделать, потому что не сделал теперь. Все вы…
– Так, я, пожалуй, брошу курить.
– Нет, не бросишь! – зарычала она во всю глотку, – не бросишь и обратишь в курящуюся ядовитым дымом кучу отбросов вашу…
Ну, это было уже чересчур: ведь если в первый момент, как она закричала, у меня еще поползли мурашки по телу (это было нежданно, к тому же и церковь, и странная тьма, и пустынное место, и маска вместо лица…), – то вот эта вот «куча зловонных отбросов» испортила все.
– Да понял вас, понял, – вскрикивал я, отчаянно дергая руку из ее мертвых когтистых лап, – понял же! Все! Что еще? Хорошо, я сяду на гноище конечности, буду скрести себя черепком, только отпустите, ради Христа… Я готов хоть сейчас начать посыпать себе голову табачным пеплом, как некий молодой Иов…
– Не кощунствуй, – сказала женщина и исчезла, оставив у меня в руке перчатку.
Я сунул перчатку (мужскую, заметим, перчатку) в карман, вздохнул, (мое свидание отменялось), – вздохнул и пошел, чувствуя себя совершенно несчастным, – несчастным потому, что несчастьем называется лишенность желаемого и желание невозможного.
А не зайти ли к Лапшиной? – она хоть размерами напоминает мою червонную страсть. О, Лапшина чудовищна! – свернувшись калачиком, я мог бы легко поместиться в ее монструозном тазу, стоящем на телеграфных столбах. Однако выше пояса эта женщина очень изящна, если не обращать внимания на топорные черты широкого, как поднос, лица: страшный орлиный нос; вишневое желе губ; глаза, как у каракатицы; черные конские волосы, перекрашенные в белый цвет; усы; бороду и голос резкий, как сирена океанского лайнера.
И все же она мне нравится – я люблю чувствовать себя козявочкой, копошащейся среди гор, а она любит козявочку, ползающую по ней. Иногда бывает страшно: я вспоминаю судьбу бедных паучков, которыми их подруги закусывают после оплодотворения. Но нет, – успокаиваю я себя, – Лапшина, конечно, способна на это, но никогда не сделает. Ведь я излечил ее от эрозии матки, ведь семя мое обладает бесценными свойствами – настоящий жизненный эликсир, медикамент, философский камень. Нет, Лапшина меня никогда не съест; где она еще возьмет такого забавного паучка? – паучка с такой философской спермой, славного паучка-целителя.
Я взял такси и поехал.
Было написано: «Стучите», – и я постучал. Никто не отозвался. Тогда (не возвращаться же!) я открыл замок – это раз плюнуть! – и очутился в прихожей.
Но стойте! – По-рассеянности опять, кажется, не туда попал? Уйти? – но в этот миг из комнаты порхнул мне на плечо крупный попугай.
– Сию минуточку! – крикнул он и щипнул меня за ухо. Я махнул рукой, чуть не пришиб его – растерянная птица отправилась оправляться на карниз.
Интересно! – и я прошел в комнаты. Из-под дивана выглянул роскошный дымчато-серый кот и тут же спрятался. Повсюду: на столах, стульях, кресле, диване, даже на полу были разбросаны женские тряпки. Стоял удушливо-терпкий дух: духи, табак, дихлофос, черемуха. Я спешил. Заглянул в другую комнату – это спальня! – огромная кровать, старинная сабля над ней, и тот же беспорядок. Пора уходить, и тут я подумал, что неплохо было бы прежде, извините, пописать, – подумал и двинулся на поиски сортира.
За первой дверью, которую я открыл, оказалась ванна… до краев наполненная пеной, из которой торчала мокрая женская голова. Я вскоре увижу и тело, читатель!
Но пока мы глядим друг на друга…
– Нехорошо вы себя ведете, молодой человек.
– Да, видите ли, дверь была открыта…
– Ах, да что ж вы стоите?!
– А что же мне делать?
– Что-нибудь!
Я шагнул к ней. Она усмехнулась:
– Вы не так меня поняли…
– ?
– Ну, выйдите на минуту – какой-то вы странный…
Я вышел.
– Сию минуточку, – крикнул попугай, слетая мне на голову.
– Балда, – сказал я и вернулся назад, ибо… это была (я ведь сразу узнал) – не Лапшина, не думай, читатель, – это была червонная дама. Стоя в рост, она вытиралась. Не без того: сделала безнадежную попытку прикрыться, но разве укроешься при таких телесах?
– В чем дело?
– Минута прошла, – отвечал я, вынув часы из кармана.
– Какая пунктуальность! – вы всегда так точны?
– Я не точен, но нетерпелив.
– Ах-ах-ах! Скажите на милость! – «он нетерпелив». Да на что вы рассчитываете? А? За кого меня принимаете?.. «Не точен»…
Черт возьми, почему же она меня не узнает? Обиделась, что ли? – и я начал:
– Вы… я бу…
– Да вы что?!
– …я будто бы знаком с вами? – сказал я нерешительно.
– Нет, что вы…
Я пожал плечами: она не врала, но все мне здесь было неясно.
– Нет? – тогда я просто потерял голову…
– Поищите ее в другом месте.
– Она здесь, под ванной. – Читатель, я балагурю от смущения.
– Ничего, вам без головы-то лучше.
– На ней остались мои глаза.
– Я их уже не стесняюсь.
– Так я могу остаться?
– Оставайтесь – я ухожу!
И она вышла, накидывая купальный халат. Я за ней. Она спросила:
– А скажите, зачем вы, собственно, сюда пришли? Вы ведь не вор?
– Да, как вам сказать, – ответил я, подходя к столу. На нем лежало распечатанное письмо. Я прочитал имя адресата: «Марине Стефанне Щекотихиной».
Читатель, стой!!! – не верь ни единому слову! – ведь я увидел ее вовсе не в ванне…
Где? – а куда я направлялся, читатель, ты помнишь?.. Вот именно! – там.
Мария Стефанна сидела с сосредоточенным от внутреннего напряжения лицом, выкатив глаза в пространство, и с губ ее готов был сорваться мучительно-сладостный стон. Она распространяла амбре. Мне показалось даже, что она нетерпеливо перебирает бедрами, словно бы присела на златоглавый фаллос Ивана Великого.
– Здравствуйте, – сказал я.
– Здравствуйте, вы заставляете ждать, – отвечала она, вставая.
– Я точен – ровно семь.
– Ладно, мог и пораньше прийти, – сказала она, и мы вышли из метро.
Но ужели же все это правда? – думал я, когда мы под руку шли к ней домой, – неужели действительно есть эта неземная цивилизация и богиня ее небосклона? Неужели я тоже?.. Черт возьми! – вот как шествуют рядом Меркурий с Венерой. Но теперь мне придется просить, хлопотать за звездного странника, влюбившегося в земную девушку, – как он ловко, хитрец, подсунул мне в электричке Марину Стефанну и все остальное… – зачем? – и главное: если мы боги, то почему? В чем наша божественность? Почему все-таки бог я, а не, скажем, Марлинский?
Почему? – да потому, что Марлинский всегда знает: где сон, а где явь.
Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, счастливая бабочка, которая радуется, что достигла исполнения желаний и которая не знает, что она Чжуан Чжоу. Внезапно он проснулся и тогда с испугом увидел, что он Чжуан Чжоу. Неизвестно, Чжуан Чжоу снилось, что он бабочка, или же бабочке снилось, что она Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, существует различие. Это называется превращением вещей.
Но большинство отличает сон от яви, ибо есть момент пробуждения, – между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, существует отличие, а вот я не всегда знаю это, напротив, слишком часто путаюсь.
Здесь ты скажешь:
– Я тоже часто не различаю, где что, особенно, если пьян или под наркозом, – значит, я бог?
И тогда я отвечу, что это вполне вероятно, но вот твой сосед по квартире: о нем ты не можешь того же сказать – ведь это тебе неизвестно.
Но есть и второе условие: ты должен быть избран. Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия, не все из людей, обладающих замечательным свойством неразличения границ, – есть боги. Нет! – богов не так много, а остальные (из тех, кто мог богом стать) не боги, а шизофреники, мой бредовый читатель. Много званых, да мало избранных.
Понятно теперь, что за устройство бог: он любой бред воспринимает как реальность, и, в зависимости от оценки этого бреда (реальности) то – есть мольбы! – эта мольба имеет последствия или не имеет.
Бог вовсе не должен ведь знать, что когда он видит превращение кожи на лице человека в дермантин и говорит себе: «что это?» – или: «во дает», или: «забавно», – он этим самым удовлетворяет (не удовлетворяет) мольбу неземного страдальца, состоящую в том, для примера, чтоб где-то (неведомо где), предположим, ну тридцать чего-то (чего мы не знаем) сделали то, для чего у нас нет никакого понятия.
Кстати, ведь точно так же, как небесная цивилизация, понимает богов и Библия (когда речь заходит о чужих богах) – она понимает их инструментально, то есть как некие устройства, отражаясь в которых мольбы реализуются. Но то – рукотворные боги. Может быть, тот факт, что нас выбирают, аналогичен этой рукотворности.
У древних лучшие боги получались из людей: их специально отлавливали (охота за черепами), выдерживали в определенных (пыточных) условиях, с тем, чтобы они приобрели нужные свойства – набрались энергии, дошли, – затем медленно убивали, потрошили, золотили – созидали себе кумиров. Но мы, слава Аллаху, живые люди и только живыми можем функционировать как боги. Нас, может быть, тоже помещают в какие-нибудь экстремальные условия в процессе становления; но, раз уж мы стали богами, мы – боги!
Мы боги! – подумал я на пороге. А через мгновение станем четою богов.
В квартире звонил телефон. Марина Стефанна заспешила к нему, а я, отмахиваясь от попугая, кричащего: «Сию минуточку», – прошел в комнату и сел пока в кресло.
Щекотихина, разговаривая по телефону, слегка наклонила корпус вперед. Став в профиль ко мне, она стала совсем похожа на купчиху с картины Федотова «Сватовство майора».
– Да-да, – говорила она, – нет, никак не могу: у меня гости – ну, гость! – почему артист? – а, трагик?! – Она взглянула улыбаясь: – Ну, может, и трагик, посмотрим! – как? серьезно? – это меняет дело…
Сидя в кресле, я смотрел на аппетитную купчиху: ее поза, ее голос, ее ласковый взгляд и улыбка и слово «трагик», произнесенное на немецкий манер, не могли оставить меня равнодушным и не оставили им – плоть моя всколыхнулась и бахнула вспыхнувшей бочкою спирта в зенит, то есть, как только Марина Стефанна повесила трубку, я, как демон, полез на нее.
Скажу положа руку на сердце: никто до сих пор не сумел устоять под моим бурным натиском – все: молодые и старые, толстые и тонкие, красивые и уродки, замужние и одинокие, черные и белые, холодные и горячие, хохотушки и серьезницы, сухие и влажные, потаскушки и простушки, иностранки и россиянки, девчушки и матронны, лесбиянки и скотоложницы, мужчины и женщины, звери и птицы, живые или мертвые – все отдавались мне безоговорочно и беззаветно. Одна лишь Марина Стефанна устояла. Все мои усилия разбились об этот лед:
– Нет-нет, пожалуйста, не надо! Как-нибудь в другой раз – ой! – нет, ну успокойтесь… Мне надо идти! Подождите! Вы слышите меня? Да послушайте же: если хотите, подождите меня здесь; нет, – выйдем вместе! Поняли?
Нет, я ничего не мог понять:
– Куда идти?
– По делу.
– Я остаюсь.