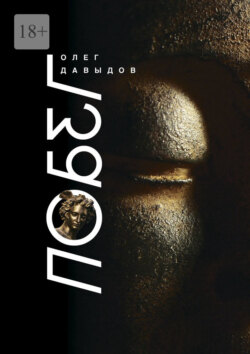Читать книгу Побег. Роман в шести частях - Олег Давыдов - Страница 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава III. Бедный ангел
ОглавлениеУтром я зашел к Марлинскому, собрал вещи, которые он просил привезти, и поспешил на Беговую – надо было успеть к можайской электричке. Марли живет около консерватории, так что я пересек свой вчерашний маршрут и вспомнил то ночное видение, от коего блудливое перо увело меня в мир поэтических грез… Сонного Сидорова, излагающего основы судебной психиатрии, вспомнил я.
– Забыл прошлый раз спросить, – сказал он, когда мы двинулись в сторону Пушкинской, – что это вас так волнует проблема вменяемости? – И тонко улыбнулся.
Крайне неприятно общение с психологом в частной жизни – ведь психолог это человек, как и все мы, ущербный, и, как многие, он нашел для себя форму поведения, скрывающую эту ущербность. И у психолога это чаще всего агрессия в отношении чужих слабостей. Я не против агрессии, но психолог забыл, почему и для чего он выработал такую форму. Все вырабатывают какую-нибудь форму, но человек, знающий чужие слабости (как раз эти вот формы поведения) и не желающий выполнять их на себе, легче всего попадает в силки собственных знаний: его подозрительность в отношении других скрывает от него то, что невыносимо ему в самом себе, – и он благополучен. Но можно ли это скрыть от других? Нет! – и человек, болтающий о чужих комплексах, силясь скрыть свои, по крайней мере неприятен – эстетически.
Я нахмурился, услышав это заигрывание Сидорова, и он тут же отработал назад:
– Хотя, вы знаете, я сам этим заинтересовался. Вопрос-то крайне запутанный – по самой своей сути. Вы меня понимаете? Но ставится крайне часто, – потому что вменяемость трактуется в юриспруденции как предпосылка вины. – Он помолчал. – Ведь многие, совершив преступление, ссылаются на свою невменяемость в тот момент. Это естественно, особенно, когда наказание может быть тяжким. Поэтому существует специальное понятие: «формула вменяемости». Эта формула состоит из двух критериев – медицинского и юридического. Не знаю, интересно ли вам это?.. – и опять замолчал.
– Ну-ну, – сказал я.
– Ну, медицинский включает нозологическую форму, патогенез, течение, прогноз заболевания, факт невменяемости, – Сидоров зевнул, а я подумал, что Марлинскому просто хотят вменить невменяемость.
– То есть насколько может отвечать за свои поступки?
– Ну да…
– А если еще ничего не сделал?
В этот момент в свете гнилушек-фонарей меж нами мелькнул серый мотылек.
– Ну, это, наверно, можно рассматривать, – отвечал Сидоров, машинальным движением руки перехватывая беспечного летуна, – как покушение…
– На невменяемость? – вставил я так же машинально.
Сидоров поморщился, отрывая крылышки. «Ну при чем тут невменяемость?» – хотел он, видимо, сказать.
– Дайте-ка, – сказал я, отбирая у него изломанные детали. Мы стояли уже у перехода через улицу Горького, где должны были расстаться.
– Юридический критерий, – заспешил Сидоров, – обычно подразделяется на два признака: первый, интеллектуальный – невозможность отдавать себе отчет в своих действиях, а второй, волевой – невозможность руководить своими действиями.
– Спасибо, – сказал я, протягивая руку на прощание.
– Да не за что, – ответил он смущенно, – заходите как-нибудь к нам – выберите время и заходите. Сара будет рада. Только вот на следующей неделе я буду в командировке, но вы звоните…
Читатель, да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.
Я успел к электричке как раз вовремя, сел на единственное свободное место и тут вдруг увидал, что по краю моей сумки переползает, пошевеливая усиками, пузатый черный таракан. Я ни на секунду не усомнился в том, что таракан от Марлинского, ибо как раз у него дома водились эти крупные черные твари, – водились сотнями. Это были необыкновенно раскормленные, ленивые, малоподвижные животные. Марли никогда не травил их, не давил, не обижал – так, иногда только прогонял со стола, когда они бывали чересчур уж настырны. Он даже, пожалуй, любил их. Во всяком случае, с некоторыми у него были какие-то дружеские, возможно, даже интимные отношения. Безвредным резиновым клеем он наклеивал им на спину бумажки, где бисерным почерком были означены имена.
Самого крупного звали Юпитер, что было не слишком удачно, ибо Юпитер оказался просто беременной самкой. Зато Аполлон отличался изяществом, а Меркурий бегал, как угорелый, плутая в объедках, разбросанных у неряхи Марлинского всюду. Когда я порой спрашивал: что это такое и откуда столь странная страсть? – он отвечал коротко:
– Таракан не ропщет.
Что правда, то правда. Так вот, увидав таракана, неторопливо ползущего по сумке, я непроизвольным щелчком отвращения стукнул по сумке и осознал содеянное, только когда ошеломленное насекомое, как брошка, повисло на кофточке сидящей передо мной девушки. В следующее мгновенье таракан уже пришел в себя и юркнул вбок, а я взглянул и обомлел: это была девушка с портрета Смирнова.
Да, та самая девушка со вчерашнего портрета, но в жизни она была совсем иной. На портрете она вышла куда как плотней, грубей, матерьяльней, тверже, сильней да и живее, наверно, чем в жизни. В жизни она оказалась хрупче, значительно мягче было лицо, обрамленное легкими светящимися волосами, более тонким был и чуть птичий нос, аккуратней прочерчены губы. Хотя вот глаза – те же самые, что на портрете, – убегающие, если даже она смотрела прямо на вас. В этих глазах была напряженность, настороженность, тонкая перетянутая струна, готовая лопнуть и вдруг обратиться слезами, отчаяние, дребезжащий надломчик и боль – и глубина, следовательно. Но тоже особого рода глубина.
Она заметила мое движение (этот мой щелчок), но, очевидно, не сообразила, в чем дело; а я – чтоб отвлечь ее, чтобы не дать ей опомниться – поскорее сказал первое, что залетело на ум:
– Здравствуйте, – сказал я, и девушка удивленно вскинула брови, – вы меня не помните? А мы ведь встречались… если не ошибаюсь, у Бенедиктова – вспомнили?
– Нет, – сказала она улыбаясь.
Читатель, ведь, собственно, я тоже не знаю Бенедиктова и помянул его только затем, что надо что-то сказать. Такая у меня манера – называю первую фамилию, а кто он? – бог весть. То есть я знаю, что был Бенедиктов-поэт, и обратился к ней так потому, что, увидев живьем, почувствовал некий надломчик, и тут закрутились в моей голове стихи Бенедиктова – вот они:
Когда ж напрасные усилья
Стремишь ты ввысь – к родной звезде,
Я мыслю: бедный ангел! где
Твои оторванные крылья?
Да и потом, слишком забавная ситуация: вчера я видел портрет, а сегодня уже встречаю ее наяву.
– Но я вас точно где-то видел, – продолжал я.
– Но где? где? – спрашивала она, нечаянно напоминая этим, что я веду себя как идиот.
Может быть, вы замечали, умудренный читатель, что, если кто-то, упомянутый в случайной, к примеру, беседе или виденный как-то мельком, поразит вас, а потом вы к тому же вдруг встретитесь с ним на улице, или в гостях, или где-то, да еще плюс к тому же и сблизитесь с ним – с поразившим вас, – человек этот будет позднее иметь на вашу судьбу особое влияние (или, если угодно, он послан вам судьбой). Для меня сказанное – просто практическое правило, и, поскольку я всегда стараюсь слушаться велений судьбы, я и решил, не упускать случая с этой милой девушкой. Тем более что она тоже живо интересовалась мной, спрашивая, где я мог ее видеть.
– Не знаю, может быть, во сне, – сказал я, подводя итог нашей непроизвольной игре в Достоевского.
– Во сне? – сказала она разочарованно – как бы пробуя на вкус мой ответ.
– Да нет – я просто не помню… Вы… впрочем, может быть, знаете такого художника Смирнова?..
– Конечно! – это мой дядя, – засмеялась она. Напряжение тут же спало, и я обстоятельно, уже без дураков, рассказал о нашей вчерашней встрече с дядей – о том, как видел в мастерской ее портрет и как он меня поразил. Девушка была довольна моими запутанными комплиментами и даже слегка зарделась. Когда же я спросил, как ее имя, она вдруг будто бы застеснялась, покраснела еще сильней и сказала, что не может простить родителям своего дурацкого имени (вот он надломчик-то – милый надломчик, который ее так красил) – Анжелика! – Она прямо выставила это имя, а я сказал:
– Ну что ж, прекрасно! Все вас, наверно, зовут Лика, и я так буду звать. – Она еще немного покраснела, и тогда я стал расспрашивать, что это за странная фамилия – Смирнов? откуда она взялась? и т. д.
– Смирна – это название одного турецкого города. Дядя Саша всегда рассказывает, что наш предок был взят в плен казаками, по национальности был турок. И вот считается, что он происходил из этого города… Дядя Саша считает себя турком…
– Ага?! – то-то я и думаю, какой он странный, – сказал я, и мы рассмеялись.
Вообще, поездка эта начинала мне все больше и больше нравиться – я с удовольствием посматривал то в окно на быстроменяющийся цветущий пейзаж; то на Лику, уже забывшую свое имя и болтающую всякий вздор; то, наконец, на симпатичных наших попутчиков. И я тоже болтал, постоянно шутил, улыбался – был в ударе! – и было приятно сознавать, как я забавен, как прекрасно нам ехать, как весело мне глядеть на Лику и ей на меня, как все хорошо, и, что это хорошее все мы крепко держим в руках! Это было, что называется, «пробуждением радостных чувств по прибытии в деревню», читатель!
В разговоре выяснилось, что Лика тоже едет на дачу и тоже в Тучково, что туда же сегодня приедет Смирнов и еще другие люди и – как было бы славно удивить дядю Сашу (Александр Иваныч звали Смирнова) этим случайным совпадением. Короче говоря, я решил похерить Марли с его вечными страданиями (зайду к нему позже) и, сойдя с поезда, отправился к Лике.
По дороге она мне рассказала кое-что о Смирнове: он живет уединенно, много в жизни пережил, мало с кем из художников общается, постоянно работает над какой-то картиной, которую не видел никто, и т. д. – однако сейчас не стоит об этом говорить – неуместно! – все это потом, читатели, потом…
– Ааа! – мой таинственный полночный собеседник! – такими словами встретил нас Смирнов. – Ну, здравствуйте, здравствуйте – какими судьбами? – уже познакомились или давно знакомы? – И к Лике: – А где же мама?
– Она сегодня не приедет – у нее дела…
– Дела, дела, вечные дела. – И ко мне: – Что, будем позировать?
– Сегодня?
– Ну, как хотите. Проходите же!.. Что мы у калитки?!
Он пошел к дому, на ходу смахивая газетой с лысины липнущих комаров. Вид у него был самый затрапезный: пузырящиеся какие-то шаровары, синяя рубаха, расстегнутая на жирной шее, и сандалии на босу ногу, но голова и лицо свежеобриты.
– Хорошо здесь, да только комары заели, – продолжал дядя Саша, усаживаясь за стол, – пейте-ка чай! Лика, тащи чашки… Эй, вон – смотрите-ка! – белка… вон она…
Действительно, было здесь хорошо и спокойно – на редкость хорошо! – и я был ужасно рад тому, что встретил Лику. Лика со Смирновым все время шутливо пикировались, и каждый старался перетянуть меня в этой игре на свою сторону:
– Правда Лика на белку похожа, правда? – такая же рыжая, и хвост линялый, – смеялся Смирнов. И действительно – ей шло коричневое, и она носила его, но что же я мог ответить? – я улыбался.
– А пойдемте, я вам покажу, какое крыльцо дядя Саша сделал. Вот, видите?
Крыльцо было похоже на дугообразный козырек, заломленный вверх, – вода должна была стекать прямо на стену.
– Забавно, – сказал я.
– Ага, понял! – закричал Смирнов в полном восторге. – Это я сам придумал…
– Только дом, наверно, сгниет, – вода-то куда стекать будет?..
– Конечно сгниет, конечно! – вот видите, дядя Саша? – сгниет.
– А мы не лыком шиты – мы вот здесь трубу сделаем. Зато какой вид с крыльца открывается, какая свобода! – встаньте сюда.
– Действительно – птица-тройка – и дуга даже, только колокольчика нет…
– Во! – вот видишь? – человек понимает! Правда, это примитивная ассоциация, но хоть какая-нибудь – а? – а ты, – он обратился к Лике, – ты заземленный человек, хоть и белка.
– С этого крыльца сбежать хочется, – добавил я, несколько задетый его «примитивной ассоциацией», – хочется освобождения. Я ведь имел в виду чувство лошади, запряженной в тройку, – тяжко под дугой…
– Ай-я-яй! – захохотал Александр Иваныч. – Кого ты сюда привезла? – подрывателя устоев. Ну, пейте чай, и айда в лес.
Я не стану занимать читателя разговорами за чаем – достаточно того, что голова Лики оказалась набитой всякого рода переселениями душ, чакрами, полями и астрологией. Между прочим, она много толковала о гороскопах – о моем, своем, дяди Сашином. Сама она родилась 18 декабря под созвездием Стрельца, что означало «кентавра, целящегося в невидимое, и – склонность к авантюризму», – сказала Лика, и я почувствовал: это было предметом ее особой гордости.
Во время чаепития появился еще один человек – некий Толик, который был, очевидно, неравнодушен к Лике, а она его всячески третировала.
Наконец, мы все вчетвером отправились гулять по лесу.
Мы медленно шли по тропе: впереди, продолжая о чем-то спорить, – Смирнов с Толиком; немного отстав, – я с Ликой, которая рассказывала о своей знакомой, как та выходит в астрал и что там видит. Я кивал и задавал вопросы:
– И что же, она полетела в эту трубу?
– Ну да – и долго летела, а потом услышала голос: «Вернитесь – вы не готовы».
– Не может быть! – воскликнул я.
Незаметно мы свернули на боковую дорожку – так что Смирнова и Толика уже не было видно.
– Вы ориентируетесь? – спросил я.
– Нет, но мы, наверно, найдем дорогу назад.
– Наверно, – сказал я и подумал вдруг: бедная овечка!
Мне стало жаль ее. Мне стало жаль вообще всех. Блаженное чувство жалости охватило меня со всех сторон – боже мой, и все это пройдет: эта прогулка, и Лика, и мое радостное чувство – ничего не останется, даже сожаления, – ведь сейчас все и вправду пройдет. Сентиментальная жалость посетила меня как бессловесное чувство, как трепет, как мгновенно упавшее сердце, – посетила и прошла, но все же мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть это от Лики.
– Знаете, на кого вы похожи? – спросила она, вдруг краснея.
– На серого волка? – (на кого же еще, если она овечка?)
– Почему же на серого? – на степного…
Вот оно чтo! Вот, оказывается, какое впечатление произвожу я на молоденьких начитанных девиц – очень мило, только на мой вкус слишком интеллигентно! – я брутально раздел ее.
– Почему ж на степного? – здесь и степей-то нет…
– А вы разве не читали?
– Что?
– Есть такой роман – «Степной волк»…
– Ааа – но что ж общего вы нашли?
Наверно ты сейчас будешь говорить, что я одинок и никем не понят, что мне нужны руководители и непременно оккультного свойства и т.д., и т. д. и т. д. – нам это знакомо! Только, когда молчишь, ты производишь лучшее впечатление, – думал я, подавая ей руку, ибо мы спускались в сплошь заросший незрелым малинником овраг, на дне которого журчал ручеек. Но Лика сказала:
– Нет, ничего особенного, там просто герой нюхает воздух – вот! – и делает это так же, как вы – так вот закидывает голову и… – Мы были в тот момент уже на дне оврага, и… когда она закинула голову, показывая, как это делаю я, – я, извернувшись, сверху клюнул ее в губы. Не так она глупа, как показалось мне вдруг, – совсем не глупа! когда наши губы соприкоснулись, она, смеясь, отпрянула и продолжала говорить, как ни в чем не бывало: – и так же точно раздуваете ноздри – вот-вот, точно так, как сейчас.
– Ли-ка! – донесся издалека трагический голос Толика, – Лика, а-у!
– Не будем отзываться, – сказала Лика, – ох, как он мне надоел! Тише.
Мы сели на огромный замшелый пень, солнечные лучи с трудом пробивали себе путь на дно оврага – разбившись о плотную листву дерев, они устало бликовали в токе ручья.
– Тише, – прошептала Лика, когда я положил руку ей на плечо, – ради бога, тише!
Склонившись, я чуть тронул губами ее шею, она отодвинулась. («Настоящая Диана», – была моя последняя мысль) – она отстранилась, но я успел заметить вставшие в ряд золотистые волоски, убегающие по ее хребту, и настороженную позу. Мы погрузились в оцепенение. Если хотите, я назову это медитацией.
– Ли-ка, Ли-ка, а-у! – слышалось по всему лесу, но Лика, по-видимому, действительно ничего не слышала. Ау, Лика!
Мы вышли, наконец, на не прекращавшийся ни на минуту зов.
– Как далеко мы забрались, – сказала Лика.
– Да, мы ничего не слышали, – мог только добавить я, пряча улыбку.
– Ладно, идемте обедать, – проворчал Смирнов.
Толик промолчал, но страдальчески поджал губы.