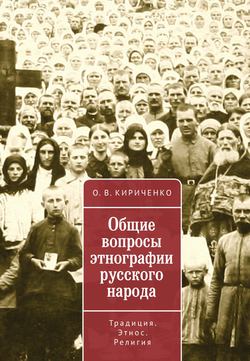Читать книгу Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Кириченко - Страница 12
Часть Первая
Традиция: этнографический контекст
Глава третья
Традиция и народная культура
Русская народная культура в период господства модерна
ОглавлениеВ XVIII в., после петровских реформ, светскость приобретает автономность, причем как в политической (гражданско‐правовой) сфере, так и в области культуры. Это означало одно: как политика, так и культура должны служить узко государственным задачам – делу укрепления власти и лиц, ее олицетворяющих. Таким образом, перед служилой аристократией (военной, чиновничьей и помещичьей) была поставлена задача более узкая, конкретная и прагматичная – создание империи, отвечающей интересам всех народов и традиционных религий, бытующих в ней. Прежняя государственная задача имела религиозную мотивацию – быть Третьим Римом и строить на земле образ града небесного. Соответственно, в новых условиях поменялись все параметры культурного строительства и, прежде всего, рушится единство и цельность народности культуры. Аристократическая культура стала уходить из общесословного народного поля, как в силу провозглашенной светскости, так и в силу наступившей вторичности для нее религиозного фактора. При этом она вступила в новую господствующую среду модерна на правах первенства, порывая с почвенничеством, но сохраняя с ним опосредованную связь. В этом случае народная культура сузилась до простонародной, по сословной принадлежности большей частью крестьянской, и, соответственно, как сельская культура все более теряла живую непосредственную связь с городом, существовавшую в XV–XVII в. Это обстоятельство не могло не повлиять на состояние общежительных мужских монастырей, бывших до того лоном народной культуры, ее локомотивом, поставщиком инновационных идей в столичный мир. Лишенные народного потенциала, монастыри духовно скудеют, мельчают их культурные проекты, все меньше становится монахов‐подвижников, монастыри перестают духовно справляться с тем обилием материального богатства (земельного), которое было им передано для решения молитвы и решения культурных задач. Последней серьезной попыткой провести реформы в этой сфере была деятельность патриарха Никона, «стремившегося заложить на базе крупных монастырей и архиерейских домов первооснову православно‐культурных центров»122. Но для государства этого было уже недостаточно, поскольку внешнеполитическая экспансия в отношении Средневековой России приобрела уже не только военный и экономический, но и общекультурный характер. Для диалога с постреформационной Европой необходим был новый, адекватный, культурный язык общения.
Итак, русская народная культура в период модерна перестает быть «государственной культурой», она становится культурой сельской, культурой «родины», места, а не времени. Все это, безусловно, снижает уровень ее компетенции и реализации, делает ее задачи более мелкими и частными, но с другой стороны – открывает перед ней и новое свободное поле для возможностей. В прежнее время обязательным была своего рода аристократическая конвертация как условие выхода народной культуры наверх, сейчас же народная, сельская культура сделалась сама себе хозяйка. Вот откуда в XIX столетии, как только утихли ветры перемен, и ушел в прошлое радикализм перехода к новому (бороды у аристократии были сбриты), начинают возникать то тут, то там яркие очаги народных промыслов. Народная художественная культура заявляет о себе и как эстетическая, и как самостоятельная хозяйственная доминанта. Расцветает простонародное (крестьянское) искусство, появляются народные центры искусства в Жёстово, Мстёре, Гжеле, Палехе, Холмогорах, Хохломе, в разных регионах появляются артели игрушечников: дымковская, каргопольская, филимоновская, абашевская, богородская, федосеевская и др.123 По всей России бурно развивается на базе самых разных отхожих крестьянских промыслов и мелкокустарное производство. Не перечислить всего, что делалось тогда отдельными артелями, на мелких фабриках и предприятиях124. Например, в вологодских деревнях к началу XX в. кружевным промыслом занимались 40 тысяч мастериц125. Продукция их не только попадала на рынки, но и получала высокую оценку на международных выставках.
В конечном счете, такая самостоятельность крестьянской народной культуры была замечена и аристократией и прежде всего той ее частью, которая позиционировала себя славянофильской. Народная крестьянская культура стала научно изучаться этнографами и фольклористами, историками и литературоведами. Художественный мир народной культуры стал влиять и на стилистику российского модерна, который с 1820‐х годов все более начинает тяготеть к русскому модерну. Сначала эта тенденция захватила область церковной архитектуры126, потом стала проникать и в светскую.
Вместе с тем в период модерна (имперский, синодальный период) со стороны Церкви делается попытка вернуть традиционной культуре ее полноценное значение как культуре общенародной. Этот проект не был рациональным плодом деятельности какого‐то одного выдающегося деятеля Церкви, он развивался скорее стихийно, чем сознательно. В данном случае речь идет о появлении с конца XVIII в. движения по созданию женских общежительных монастырей, вырастающих эволюционно из богаделен и общин127. За столетие их выросло около пятисот, с численностью в каждом от двухсот до полутора тысяч (в самых крупных). Это явление чем‐то напоминало создание Северной Фиваиды в XIV–XV вв., с одной лишь разницей, что инициатива создания новых обителей в сельской местности на этот раз шла от женской (девичьей) части общества. Причем как от русской, так и представительниц других православных народов России (мордвы, чувашей, марийцев, карелов). Соответственно, не мог не возникнуть на этой почве и феномен сословного единения в рамках общего дела. И действительно, эти монастыри были общесословными, с преобладанием крестьянских насельниц. Снова появился шанс объединения хотя бы части народной культуры, но на общей сословной и религиозной почве128.
Новые женские обители создавались большей частью на новых местах, в стороне или вдали от городов и сел. Но сюда стали стекаться все самобытные творческие силы из разных областей художественной сферы: архитектуры (так выросла оригинальная русская провинциальная школа), живописи (иконописи), церковного пения, книгоиздания и переводов с греческого и латинского. У провинции и столичных центров (Санкт‐Петербурга и Москвы) появились тесные творческие связи. Опять, как и в давние времена, монастыри стали влиять на столицу, хотя и не в такой степени, как прежде. Эти монастыри были увидены и властью в 1840‐е годы, и им стала оказываться всяческая поддержка, хотя в первую очередь в той области, которая была связана с благотворительностью и социальной деятельностью обителей (создание в их стенах школ, больниц, приютов и богаделен). Монахиням приходилось осваивать профессии врачей, педагогов, сестер милосердия (для участия в военных действиях), нянь и сиделок. Они трудились прорабами и рабочими на монастырских стройках, выполняя самую тяжелую и черную работу, которую все другие отказывались выполнять. Монастырские ведомости позволяют судить о полном круге профессий, которые осваивались монахинями и послушницами. Инокини полностью обеспечивали себя всем: от ткани и одежды, до обуви. Многое делалось по заказам мирян из‐за высокого качества и дешевизны монастырской продукции129.
Данная масштабная попытка вернуть традиционной культуре ее прежнее ведущее значение и тем самым повысить статус и народной культуры столкнулась с самым активным противодействием. Если в XV в. со стороны государства и общества высказывалась лишь одна претензия – к монастырским земельным владениям, то в XIX – начале XX в. таких претензий стало намного больше. С одной стороны, образованное и знатное общество в массе своей старалось вообще не замечать их существования. С другой стороны, в каждом удобном случае на монастыри обрушивались с критикой и бранью, близкой к той, которая стала официальной только в советское время. Это обстоятельство в значительной степени и помешало народной культуре укрепить свои позиции и обрести новый статус вполне официально. Очевидно, женские обители вызывали небывалое раздражение в обществе именно в силу своего почвенничества, монархизма, искренности веры, процветания там подвижничества. Не поэтому ли абсолютное большинство вновь отстроенных тогда монастырей было разрушено до основания после 1917 г.
Появление в русском обществе XVIII – начала XX в. народной культуры в двух вариантах: крестьянской народной и общенародной монастырской, при господствующем существовании культуры модерна как образца чисто городской культуры, уже было отдаленным указанием на грядущую постмодернистскую реальность. Культура модерна не имеет возможностей быть третейским судьей межу культурами и стилями. Модерн требует стилевой определенности на длительный (50–100 лет) исторический промежуток. Здесь же налицо культурная полифония в области народной культуры. В среде творцов модерна зрело активное противодействие превращению его в русский модерн, а тем более растворению его в общенародной монастырской культуре, к чему все начинало склоняться к началу XX в. Так возникла мощная идеологическая оппозиция, занимавшаяся как деэтнизацией модерна, так и погашением его направленности в сторону православия. Имеется в виду активная помощь профессиональным революционерам со стороны подавляющего большинства деятелей творческой интеллигенции того времени. И революционеры добились успеха в 1917 г. на своем поприще не без помощи этих сил.
122
Румянцева В. С. Монастыри и монашество в XVII веке // Монашество и монастыри в России. XI–XX века. Исторические очерки. М., 2002. С. 175.
123
Народные мастера. Традиции и школы / Сост. и общая ред. М. А. Некрасовой. М., 2006. С. 19.
124
Кадомцев Б. П. Профессиональный и социальный состав населения Европейской России по данным переписи 1897 г. (критико‐статистический этюд). СПб., 1909; Книпович Б. Н. К вопросу о дифференциации русского крестьянства (дифференциация в сфере земледельческого хозяйства). СПб., 1912.
125
Крестьянинова Л. Ф. Кружевницы вологодских деревень // Народные мастера. Традиции и школы. С. 58.
126
Павлова А. Л. Старчество и расцвет монастырской архитектуры в России в XIX веке // Традиции и современность. Научный православный журнал. 2003. № 2. С. 62–72; Она же. Соборные храмы юга средней полосы России в XIX в. // Традиции и современность. Научный православный журнал. 2006. № 4. С. 54–69.
127
Кириченко О. В. Женское подвижничество в России. XIX – середина XX в. Свято‐Алексеевская пустынь, 2010.
128
Некрасова М. А. Православно‐народная сущность Образа. Воздействие на крестьянское искусство этики и этетики древнерусской культуры. Монастыри. Их роль в зарождении искуства народных промыслов. XVIII – начало XX в. // Народное искусство: Русская традиционная культура и православие… С. 13–27; Кириченко О. В. Народные основы женского монастырского творчества // Там же. С. 503–515.
129
Там же. С. 202–264.