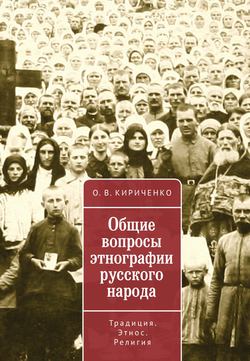Читать книгу Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Кириченко - Страница 26
Часть Вторая
Этническое. Национальное. Сословное
Глава первая
Русская земля, Отечество, Святая Русь, Родина как обозначения этнического пространства русских
Церковь и понятие «Родины» в годы Великой Отечественной войны
ОглавлениеКонечно, мы должны понимать, что Церковь, несмотря на дарованные большие свободы в период войны, все же не могла прямо и ясно говорить «языком Святой Руси», к тому же она обращалась ко всему народу, поэтому язык ее должен был быть понятным современникам. В обращениях церковных иерархов звучат понятия «родина» и «отечество», причем «родина» как гражданское понятие, а «отечество» как церковный его эквивалент. В церковной проповеди ясно присутствуют этнически выраженные определения «русская земля», «русский народ», «святая Русь», но при этом вводится новый для широкой народной аудитории термин «мать‐церковь». Может быть, это понятие осторожно употребляется в качестве церковного эквивалента образа «родина‐мать».
В обращении митр. Московского и Коломенского Сергия, патриаршего Местоблюстителя к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» от 22 июня 1941 г. звучали слова: «Фашистские разбойники напали на нашу родину»; «нашей страны»; «России», «родную землю»; «благом и целостностью родины»; «кровными заветами любви к своему отечеству»; «о священном долге перед родиной и верой»; «отечество защищается оружием», «готовностью послужить отечеству», «свои души за народ и родину»; «жертвует ради родины»; «нам пастырям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг»; «прямая измена родине» (поиск выгод на той стороне границы); «за родину и веру»; «за нашу родину»; «родине нужна жертва»; «священных границ нашей родины»313. В послании четыре раза звучит старинное и, по сути, государственно‐церковное понятие «отечество» и в десяти случаях употребляется слово «родина». Родина здесь основное, краеугольное понятие, обозначающее суть того, что необходимо защищать. Следует обратить внимание на то, что «родина» сопрягается в двух случаях с парой «народ» и «вера»: «за родину и веру»; «за народ и родину», и такая лозунговая (самая кратчайшая) форма должна еще больше заострить глубину и емкость данного понятия.
В последующих посланиях периода Великой Отечественной войны митрополит Сергий часто прибегал к понятию «родина», оно являлось самым распространенным в числе понятий, обозначающих страну, государство. Реже в других документах звучал термин «отечество». Рассмотрим несколько типов подобных обращений: 1) в проповедях к конкретной пастве в тех или иных соборах звучат слова: «страна, родина в опасности»; «Родная земля»; «предателей родины»; «защитников родины»314; «на нашу родину»; «они (все убиенные. – О. К.) жизнь свою положили на поле брани за отечество»315; 2) в патриарших посланиях ко всей российской пастве или к верующим отдельного региона находим такие словосочетания, как: «нашу землю»; «для спасения родной земли»; «над нами Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступницы Русской земли»; «в сердце Святой Руси»; «ко врагам родины и Церкви»; «на защиту Церкви и родины»316; «злое нашествие врага временно оторвало вас от сердца родины»; «купить себе благополучие путем измены Церкви и родине»; «к унижению родины и себя самих»; «во имя верности Церкви и родине»; «есть заслуга пред родиной»; «помните, что родина не забывает нас»317; «изгнать врага из своей страны»; «свою православную веру и родную национальность»; «заслуги перед Церковью и родиной»; «не посрамим Земли Русской»318; «от имени всем нам родной Матери – Русской Церкви»; «нашу землю»; «от родной страны»; «готовый на всякие жертвы ради родины»319; «наши предки строили Святую Русь… умирали за Русь»; «нашей земли»; «народа‐богатыря»; «верность общей родине»; «защитить родину»320; «святое дело спасения родины»; «дело спасения родины»; «на пользу нашей великой Родины»321; «мрачная немецкая ночь миновала, у нас снова мирный русский день»; «над нами родное русское солнце»; «на защиту веры и родины»322; «доблестная русская армия изгонит фашистскую нечисть из пределов нашей родины»323; «нашу страну»; «общий подвиг за спасение родины»; «преданный тыл»; «ваша любовь к родине и ее свободе»324; «Родина никогда не забывает вас»325; «Мы пройдем через все испытания, и мы под знаменем Богородицы победим врага. С нами Бог, с нами Богородица. Мы молимся о единстве нашего народа. Мы верим, победа придет!»326 Митрополит Сергий обращается к понятию «родина» даже в таких официальных документах, как поздравительные телеграммы вождю партии: «верных чад нашей родины»; «подвиг за родину»327; «вверенной Вам родной страны»; «истерзанной родины»328.
В послании патриаршего экзарха митрополита Алеутского и Североамериканского Вениамина ко всем русским людям в Америке понятие «родины» является центральным, но вместе с тем владыка Вениамин, как человек дореволюционной культуры, часто употребляет и слово «отечество»: «на нашей родине ведется страшная, небывало жестокая борьба с беспощадным врагом за отечество»; «опасность нависла над целостностью нашей земли русской»; «как молится теперь Церковь на родине нашей»; «чтобы русские люди молились и здесь о победе русскому воинству… чтобы жертвовали на армию и защитников отечества»; «архиереи (в США. – О. К.) не просят Президента о помощи родине нашей»; «в грехах тамошнего русского народа, на родине»; «в деле защиты нашей родины»; «Пусть за меня скажет Церковь на родине»; «на борьбу за священные границы отечества»; «прямою изменою родине»; «ожидает от врага родины»; «народ там на родине»; «в жертву за родину»; «не родине нашей, а ее врагу»; «помощь родине»; «на помощь родине»; «о помощи нашей родине»; «в послании на родине»329.
Важное значение для воспитания патриотического народного чувства имело празднование Покрова 14 октября 1941 г. в Москве: «после праздника Покрова Пресвятой Богородицы вырвалось из глубины народной души сокровенное светлое чувство – любовь к России, и сопротивление Красной Армии резко окрепло». Важной вехой стала Божественная Литургия в переполненном Богоявленском соборе 22 октября 1941 г. Митрополит Николай Ярушевич сказал: «Мы пройдем через все испытания, и мы под знаменем Богородицы победим врага. С нами Бог, с нами Богородица. Мы молимся о единстве нашего народа. Мы верим, победа придет!»330
Известны многие случаи небесной помощи воюющим советским солдатам. Здесь также на первый план выходит образ Божьей Матери. В ноябре 1942 г. в самый тяжелый период защиты Сталинграда было явление Божьей Матери в небе над городом. Свидетелем чуда стали воины целой воинской части армии Чуйкова331. Тема чудес и покровительства Божьей Матери в военные годы на сегодня мало исследована, хотя уже накоплен обширный круг свидетельств, но в силу «ненаучного формата» самого понятия «чуда» это явление, к сожалению, не вводится в научный оборот и военная тема не получает дополнительной смысловой акцентировки.
В послевоенный период в советской идеологии сложившийся канонический образ «Родины‐Матери» следовало перенести в более привычные для советского человека формы. Из области «иконописной», плоского образа, который поддерживала в годы войны и публицистика, это понятие стало перетекать в объемные формы «памятника». После войны религиозная составляющая быстро начинает уходить из художественных символических сюжетов, через которые государство обращалось к «сердцу» народа. Появление памятников Родине‐матери показывает, что началось решение другой идеологической задачи.
Наиболее ярким проектом в этой области стало появление воинского мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде, воздвигнутого на месте ожесточенных боев в 1943 г. Комплекс возводился в 1958–1967 годах, хотя идея его сооружения появилась раньше. Новым в символике каменной «Родины‐Матери» на Мамаевом кургане было оружие в женских руках; Родина‐Мать взяла в руки меч, что не характерно ни для военного плаката, ни для православной иконографии. Меч в данном случае заменил Слово, поскольку на известном плакате Тоидзе Родина‐Мать держит лист с призывом идти на фронт. Тут же сразу возникают известные слова, произнесенные св. князем Александром Невским: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Фраза, идущая от евангельских слов Спасителя, когда Он запрещает апостолу Петру действовать мечом против своих врагов. Памятник на Мамаевом кургане – это искусственно сконструированный образ, далеко ушедший от военного первообраза из плаката «Родина‐Мать зовет». Сам по себе камень, как выразительный материал, уже выходит за рамки православной традиции; кроме того, мы видим фигуру Родины‐Матери без платка (античный подтекст), с мечом. Все это в совокупности отражает не священное достоинство Матери, а указывает на иной смысл. Новый смысл здесь привязан к карающему мечу, он указывает на суд, возмездие и, в конечном счете, обращен к закону (государству). Перед нами не православный сублимированный образ Матери, а скорее античный мифологический персонаж, главная цель которого – этическое воздействие на зрителя. Проводится нравственная идея возмездия за преступления против человечества. На это рассчитаны и гигантские размеры скульптуры. Перед нами культурное пространство, оформленное для того, чтобы напомнить о бывшей здесь войне. Образ Родины‐матери не перешел (и не мог перейти) из плакатов в иное православное, хотя и светское, но высокое художественное пространство, а, потеряв после войны свою мощнейшую сакральную символику и значимость, «застыл» в сугубо этическом символе. Этическое начало здесь побеждает эстетическое воздействие именно благодаря перекодировке традиционных смыслов. Эстетические элементы (камень, гигантские размеры статуи, ее античный символизм) работают не на эстетическую идею, а подчинены этической мысли – возмездия и отмщения за военные преступления. «Афина» – богиня войны, видевшая войну воочию, выступает обличительницей военных преступников.
Интересен в этой связи вопрос о православных памятниках, которые стали появляться в большом количестве с начала 1990‐х годов. Настолько они «святы», при том, что среди них мы видим лики святых и подвижников? Чем памятно всем время начала 1990‐х? Резким ослаблением силы государственной власти, падением авторитета закона, своего рода анархией в структурах власти, безудержным шельмованием всего своего самобытного русского, российского, традиционного, с перекосом внимания на все западное, американское, демократическое, рыночное. В эти годы, разрушительно действовавшие на умы граждан России, на их гражданское самосознание, православная скульптура стала своего рода средством, препятствующим этому тотальному разрушению государственного сознания у людей. Скульптура, как мы уже выше отмечали, по своему материалу и в силу своей телесности, всегда была чужда православному художественному видению образа человека, так как в самом уже материале – камне, бронзе, мраморе – выражена этическая приземленная мысль.
Почему же тогда православный скульптор В. М. Клыков, самый известный из череды скульпторов постсоветского времени, стал активно созидать скульптуры с православными сюжетами? Причина этого в страшном дефиците средств воспитания гражданских чувств: долга, патриотизма. К телевидению воспитателей патриотизма не допускали, поскольку там реализовывалась прямо противоположная программа, и тогда православная скульптура стала подлинным воспитателем чести и достоинства российского гражданина. Православные святые – благоверный князь Александр Невский в Курске, святые просветители славян Кирилл и Мефодий в Москве, страстотерпец царь Николай II в Тайницком, прп. Сергий Радонежский в Троице‐Сергиевой лавре (перед ней), прп. Нил Столобенский в Осташково, перед монастырем – десятки памятников святым должны были аккумулировать в душах людей чувство патриотизма, взывать к памяти, к истории, связывать историю гражданскую с историей церковной. Появление этих памятников было следствием слабости государственной власти России, а также следствием оттеснения православия от гражданского воспитания на задворки информационного вещания. Памятники православным святым продолжают появляться и сейчас (в Воронеже памятник свт. Митрофанию, в Симферополе памятник свт. Луке (Войно‐Ясенецкому) и др., что указывает лишь на то, что проблема, из‐за которой они вынуждены появляться, до конца не решена, особенно в области информационного поля. Создатели памятников православным святым и государственным деятелям пользуются, конечно, языком модерна, но этот язык был освоен еще в имперскую эпоху России и стал привычным. Этот «имперский язык» сегодня не по сердцу некоторой части православных, видящих в этом феномене католическое влияние, что, конечно же, нельзя признать справедливым. Имперский язык без империи сегодня – это нонсенс, но это вынужденное противоречие, которое должно решиться со временем, когда о святынях русской истории не стыдно будет говорить политикам, журналистам и телеведущим.
Подытоживая сказанное, отметим, что из двух обозначенных в постановочной части характеристик этничности – динамичной и статичной, именно статичная, связанная с пространственными характеристиками этнического осознания территории, имеет функцию защитного механизма этноса. В то время как динамичные характеристики этничности (язык, антропологический тип, духовность, материальная культура) отвечают за адаптивные возможности (адаптация к духовному, социальному, культурно‐материальному и природному миру).
Сужение комплексного этнорелигиозного понятия «Русская земля/ Отечество/Святая Русь» до уровня текстов и, в конечном счете, замена его понятием «родина» было не случайным историческим эпизодом в истории России, учитывая (как отмечалось выше), что в XVI–XVII вв. в стране существовала острая потребность в созидании Святой Руси как единого территориального, для России, целого. Но продолжение созидания стало тормозиться, в рамках прежнего политического и социального устройства страны, по причине угасания того мощного импульса, который Церковь и страна получили в результате деятельности прп. Сергия Радонежского и его многочисленных учеников и последователей. Вместе с тем в предпетровский период быстро росла активность «извне» на внешних границах государства, в то время как Россия не готова была так же активно ответить, ни экономическими, ни политическими, ни церковными средствами. В основе всего лежал, конечно, духовный фактор. Им определялся и уклад жизни страны, и особенности ее политической жизни, и лицо ее хозяйства – экономики. Вот почему «святорусская идея» продолжала быть главным внутренним мотивом всех назревающих перемен. Миссионерские запросы Русской Православной Церкви в этот период требовали не только оказывать денежную помощь греческим патриархам, но – более активно и конструктивно участвовать Русскому Православию в общемировом процессе. Вот почему, по большому счету, Российская империя, которую начал созидать Петром I, была лишь политическим и экономическим средством для достижения духовных целей, которые сводились к продолжению церковной миссии Русской Православной Церкви как внутри России, так и за ее пределами. Итогом огромных усилий всего русского общества было распространение Русского Православия в XVIII—XX вв. не только в Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, Средней Азии, но и по всему миру. Православие пришло в Северную Америку, в Юго‐Восточную Азию (Японию, Корею, Индию, Китай), Европу. Трагический для России XX век принес свои великие духовные плоды, через рассеяние по всему миру огромного числа русских появилась возможность открыться сотням и тысячам православных храмов и десяткам монастырей в самых разных уголках мира. Вот почему, на наш взгляд, Российская империя была скорее глобальным церковным, чем государственным проектом, направленным на решение Вселенских церковных задач, и русские люди в этом проекте стали той этнической силой, которая была целенаправленно употреблена на решение проекта.
Нами был рассмотрен процесс русского этнического и национального домостроительства, который включал в себя, и этногенез, в узком смысле этого слова (до середины XVI в.), и нациогенез (имперский период), и нациестроительство в разных его формах (советской и постсоветской). Русская этничность чрезвычайно обогатилась этим многовековым, многотрудным и даже трагическим опытом, но вместе с тем к началу XXI в. и была поставлена в условия крайнего истощения. В то же время русский народ действовал и действует в рамках сложных форм государственного целеполагания: здесь есть такие понятия, как Святая Русь, Россия, Российская империя, Российская Федерация, – и все они связаны друг с другом, и все они заменяют друг друга, но содержат в себе все остальные смыслы. Нынешние русские в значительной степени растеряли понимание «русского закона» и «русской православной веры» на церковном ее уровне и глубине, но в них жив еще этнический идентификатор, связанный с территориальными границами, привязанный к понятию «Россия». Как было отмечено выше, чтобы вернуть русской этничности силу ее триединства, необходимо двигаться в сторону укрепления территориальной этничности за счет церковной составляющей, и только на следующем этапе будет возможно укрепить русское правосознание и довершить процесс реэтногенеза созданием новых государственных форм, отвечающих народному духу.
313
Страж Дома Господня. Патриарх Московский и всея Руси Сергий Страгородский /Сост. С. Фомин. М.: Правило веры, 2003. С. 550–551.
314
Речь митрополита Сергия на молебне о победе русского воинства вечером 26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе в Москве // Страж Дома Господня. С. 552–553.
315
Поучение, сказанное митрополитом Сергием за Литургией в церкви Иоанна Воина на Б. Якиманке в Москве 12 августа (30 июля ст.ст.) 1941 г. // Там же. С. 553–555.
316
Послание к московской пастве // Там же. С. 555–556.
317
Верным чадам Святой Православной Русской Церкви и нашей Великой Родины, оставшимся в областях СССР, теперь временно захваченных врагом // Там же. С. 565–566.
318
Послание чадам Святой Православной Русской Церкви в годовщину начала войны // Там же. С. 585–586.
319
Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам Святой нашей Церкви в областях СССР, еще не освобожденных от немецкой оккупации // Там же. С. 594–595.
320
Рождественское послание // Там же. С. 595–596.
321
К архипастырям, пастырям и приходским общинам нашей Православной Русской Церкви // Там же. С. 596–597.
322
Православной пастве Ростова‐на‐Дону и Ростовской епархии // Там же. С. 599—600.
323
Пасхальное послание // Там же. С. 601–602.
324
Пасхальное послание всем христианам в Югославии, Чехословакии, Элладе, и прочих странах, к православным народам, пребывающим в плену фашистских застенков // Там же. С. 602–605.
325
Слово ко дню двухлетия войны // Там же. С. 608.
326
Страж Дома Господня. С. 532.
327
Телеграмма митрополита Сергия И. В. Сталину // Там же. С. 590.
328
Телеграммы митрополита Сергия И. В. Сталину // Там же. С. 598.
329
Послание патриаршего экзарха митрополита Алеутского и Североамериканского Вениамина ко всем русским людям в Америке // Там же. С. 556–561.
330
Послание к московской пастве // Вестник военного и морского духовенства. 2005. Спецвыпуск. С. 40.
331
Красник Л., Андреев Ф. Сталинградское знамение // Вестник военного и морского духовенства. 2005. Спецвыпуск. С. 61–65.