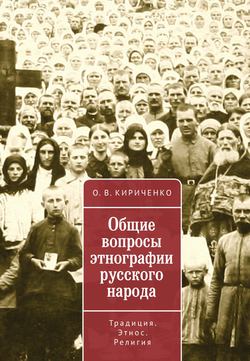Читать книгу Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Кириченко - Страница 24
Часть Вторая
Этническое. Национальное. Сословное
Глава первая
Русская земля, Отечество, Святая Русь, Родина как обозначения этнического пространства русских
Образ Родины в церковной и государственной мысли предреволюционного времени
ОглавлениеДве войны, которые Россия вела на своей территории, а также общая ситуация в общественной жизни России, понуждала как государство, так и Православную Церковь постоянно корректировать свою позицию по вопросу о возвращении русской этничности должного места в государственных и церковных программах. Но речь шла не о том, чтобы «отечеству» вернуть искомый этнический компонент, а скорее о том, чтобы признать право широкого толкования понятия «Родины». Мы приведем несколько примеров, взятых из разных сфер церковной и государственной жизни, но во всех уже, как можно заметить, присутствует искомое «родина» как макропонятие.
Переписка мичмана князя Александра Щербатова со своей невестой княжной Софьей Васильчиковой (1904—1905 гг.)247 содержит весь набор тех понятий, которые уже проникли в консервативную дворянскую военную среду «служителей царю и отечеству». В самых первых письмах юного князя Александра Щербатова, когда он еще не воевал, а находился в тылу, звучат слова: «честь и счастье русского народа и всего славянского племени» (30 января 1904 г.); «вера и Родина» (много раз), «Великая Русь» (от 30 января 1904 г.); «Русь» (от 31 янв. 1904 г.); «Россия», «Отечество» (2 раза) (от 2 февраля 1904 г.); «долг перед Отечеством» (2 раза), «польза Родине», «Святая Русь (3 раза) встрепенулась» (2 февраля вечер); «испытание России», «жертва для Отечества» (3 февр. 1904 г.); «за веру Христову и Отечество» (3 раза) (9 февр.); «не посрамили земли Русской» (11 февр.); «вера в Русь» (15 марта). Начало участия князя в боевых действиях было на крейсере «Россия». Здесь патриотических формул в письмах князя становится меньше, но не исчезает сам патриотизм в рассказах о боевых действиях: «на пользу Отечества» (12 апреля); «что может быть святее защиты Отечества» (13 июня); «мой долг, наш вообще долг – воевать, отстаивать нашу Родину» (20 августа); «перед Богом и Отечеством» (1 января 1905 г.); «сила наша в народе, спасение Руси» (21 марта 1905 г.); князь возмущается, когда невеста пишет, что ей современная Россия отвратительна, поэтому она называет ее «обителью подлости» (19 июля).
В переписке князя Щербатова, юного мичмана, представлен весь славянофильский набор русских патриотических понятий: «отчество», «Родина» (в значении места, где находится Русская земля, где Россия, где живет русский народ), Русь (или Святая Русь), в значении православного народа. Поначалу князь сосредоточен на народной стороне понятия (Русь, Родина, народ), но по мере смыслового втягивания в реальности военного времени самым употребительным понятием становится слово «отечество». Оно как бы заменяет все остальные, и потому оно самое емкое по содержанию.
В дневнике полкового священника о. Митрофана Сребрянского в самом начале (еще до описания военных событий) звучит тема родины: «Больно в сердце отозвался призыв бросить все и всех и идти в путь далекий на войну!.. Да если бы не крепкая вера в святые принципы: “Вера, царь и дорогая Родина”, то трудно было бы справиться с собою»; «прижал к груди своей жену и родных», с русскими едет на войну черногорец «постоять за искренне любимую им Русь‐матушку». В другом месте говорится о русских солдатах: «постоять за Русь‐матушку и за царя‐батюшку»248. Как видим, о. Митрофан вполне традиционалист, но в то же время он уже усвоил и легальность и благозвучность понятия «родина».
У свт. Николая Японского в Дневниках в период войны Японии с Россией, когда сам он пребывал в Японии и даже благословлял своих прихожан‐японцев воевать за свое отечество земное, два понятия – «родина» и «отечество»249. Митр. Московский Макарий (Невский) писал в 1905 г. после войны с японцами в статье «За что мы наказываемся»: «Нам нужно объединиться около матери нашей – святой Церкви, около матери нашей – Земли Русской…»250.
Приведем еще один характерный для этого времени патриотический взгляд на происходящее. Речь идет о письме, направленном в суворинское «Новое время» корреспондентом, волнующимся о судьбе Отечества в период войны России с Японией. Он пишет: «Молчаливая Русь сказала всему свету, что она живет единою жизнию и готова постоять за свое имя, жертвуя на святое дело и деньгами, и трудами, и кровью»251. Для автора письма Русь есть именно Святая Русь («святое дело»), и ее полнота в ее единстве («единою жизнью»). И третья характеристика современной автору Руси: кроме того, что она не едина, не полна – она молчалива. Далее автор письма так характеризует свое время: «Благороднейшие умы почти с отчаянием смотрят в невеселое будущее, ожидая и физического и нравственного вырождения Руси». В понимании слова «Отечество» автор тоже традиционен: «“Отечество” осталось, как и встарь, “крылатым” словом, окрыляющим людей на подвиги и жертвы; Отечество по‐прежнему – “алтарь”, служение которому выводит человека из засасывающей его тины повседневного эгоизма». В обращении вспоминается и третье искомое для Древней Руси понятие – «Русская земля»: «Жив Бог Земли Русской и жива душа народная». П. Никольский – автор статьи о столетнем юбилее А. С. Хомякова не случайно обращается в начале статьи к письму в «Новое время», ведь там звучат славянофильские идеи. В связи с этим П. Никольский отмечает, что «до сих пор славянофильские писатели были какими‐то пасынками русского общества, ими мало интересовались, как бы не доверяя глубине их любви к родине, часто даже смешивая ее с дешевым, т. н. квасным патриотизмом»252. Особенно автор статьи сетует, что русское духовенство забыло о славянофилах. Но события войны с Японией, а также столетний юбилей А. С. Хомякова вызвали в обществе интерес к ним. В свет вышло восьмитомное собрание сочинений А. С. Хомякова, составляется его жизнеописание, на очереди издание трудов других славянофилов.
В Послании Св. Синода по случаю войны 1914 г. говорится: «Всемогущему Богу, в неисповедимых судьбах Его, угодно было ниспослать Отечеству нашему новую годину тяжкого испытания; народ русский; за славу нашего Царя, за честь и величие Родины; в великий час, наставший для нашей Родины, какие потребует от нас защита веры и Родины»253. В царском манифесте к народу в дни объявления войны выделены понятия «Россия», «Русская Земля», «Святая Русь»254. В проповеди епископа Дмитровского Трифона (Туркестанова) 5 августа 1914 г. в Успенском Кремлевском соборе в присутствии Николая II звучит: «За честь и славу нашей Родины, обагренной и искупленной кровью отцов наших»255. В 1917 г. епископ Пермский Андроник (Никольский) в первые дни после февральского переворота сказал проповедь в соборе Перми: «Отечество в опасности»256.
На открытке 1914 г. (автор С. Родионов), где мать надевает на сына ла-донку и благословляет на фронт, есть наверху надпись «Иди за Родину», внизу стихи Н. Некрасова «Один я в мире подсмотрел святые искренние слезы – то слезы бедных матерей, им не забыть своих детей»257. Эти же стихи были и на другой открытке 1915 г.258 На другом известном плакате 1914 г., где изображена мать, благословляющая сына на фронт (надпись на плакате «Сын мой, иди и спасай Родину!»), ярко зафиксирована реалия времени: вместо традиционного отеческого благословения сына фронт, что было характерно еще для периода войны 1812 г.259, благословляющим лицом выступает мать.
Плакаты 1914–1915 годов в целом отражают непростую мировоззренческую картину, существовавшую тогда в русском обществе. На многих патриотических плакатах воюющая Россия изображена аллегорически, в виде воинственной Афины Паллады. Сюда же можно отнести аллегорический образ России в виде светской красавицы в кругу союзников, также молодых женщин – Англии и Франции. Но есть и плакат с фигурой «Москвы», нарисованной по образу сердобольной боярыни XVII в. (очевидно, близкой к образу Иулиании Осоргиной).
Также в этот период появляются иконографически новые образы Божьей Матери Августовской, что указывает еще на один взгляд на современные события. В тропаре Божьей Матери Августовской, написанном в 1915 г., звучит понятие «земля Русская», то же и в кондаке. В молитве благодарственной после битвы в солдатских молитвословах звучит: «защитника Отечества нашего»260, а в другой молитве – перед битвой есть слова: «Радостно иду я исполнити святую волю Твою и положити жизнь свою за Царя и отечество»261. Один источник передает слова русского солдата‐военнопленного, которого расстреливали немцы: «Я умираю за святую православную веру и за родную Русь»262.
Итак, в начале XX столетия и непосредственно в предреволюционный период как в церковных и государственных документах манифестного характера, так и в церковной и православно‐патриотической публицистике стали появляться такие привычные для допетровской Руси территориально‐этнические понятия, как «Отечество», «Святая Русь», «Русская Земля», что явно указывает на появившуюся оценку со стороны всех сил – и монархического государства в лице императора, и Церкви, и православной общественности – грядущей на страну опасности.
Последний император из династии Романовых, св. мученик царь Николай II более других русских императоров тяготился разницей между имперскими – миссионерскими задачами и задачами чисто внутренними, касающимися укрепления русского народа. Он особенно нарочито и искренне старался проявлять свою русскость в традиционных формах: через многочисленные прославления святых, в том числе и личное участие в этих церковных торжествах; через особое внимание к простому человеку (солдату, казаку, матросу, священнику, купцу); через создание своей крепкой большой семьи; через сугубую церковность в личной жизни; тайную благотворительность и помощь; через активную поддержку традиционных и церковных начал в обществе. Вот почему именно в царском манифесте 1914 г. звучат слова «Земля Русская», «Святая Русь».
В то же время имело место и широкое распространение, судя по плакатам, и другого официального взгляда на события, чисто западнического, в его «некрасовском» выражении.
Выскажем предположение, что вместе с появлением в русской, консервативной, православной среде славянофильских идей (а это было уже гораздо шире идейного поля славянофилов) в начале XX в. появился и стал возрастать мощный идейный порыв к возвращению в этническое поле главных территориально‐этнических понятий допетровской Руси – «Русской Земли», «Отечества» и «Святой Руси». Скорее всего, это было реакцией на то, что некрасовская идея «родины‐матери» в то же время стала активно «овладевать массами», окончательно вытесняя русское и православное начала на периферию общественной и политической жизни. Назревало уже не противостояние отдельных партий, отдельных лиц и идей, а размежевание всего общества по самому существенному признаку.
Церковный Собор, проходивший в 1917–1918 гг., подвел свой итог в вопросе о русскости. В обращении членов Св. Синода от 29 апреля 1917 г. Церковь называется то Российской, то Русской. В отдельных обращениях появляется еще одно именование – «Всероссийская Православная Церковь»263. В первые дни Собора понятие «родина» вообще не употреблялось, но говорилось об «отечестве». Церковные иерархи говорят, что мысль о необходимости Собора возникла в сердцах «русских людей», что «заветная мечта русских православных людей осуществляется»264. В последующих документах все чаще начинает звучать понятие «родина». «Приступив к сему делу… в обновляющейся Родине, жаждущей благодатного мира и покоя… за землю Русскую»265. В представлении Св. Синода Поместному Собору звучат слова «православно‐русский мир», «русская церковная жизнь», «обстояния, переживаемые нашим Отечеством», «отовсюду раздаются голоса, что Родина гибнет», «народ разделился на партии, утратил единство», «дело оздоровления русской земли», «от Собора ожидается мощный призыв народа обратиться к Богу с упованием в ближайший воскресный день или три ближайших воскресенья для нарочитых молебствий ко Господу о спасении Отечества»266. Министр исповеданий А. В. Карташев от лица Временного правительства приветствовал Собор, обращаясь во всех случаях «Русская Православная Церковь», а не Российская267. Приветствуя Собор, митрополит Московский и Коломенский Тихон отмечал: «Москва и ее святыни в прошлые годы деятельно участвовали в созидании Русской Державы», «ныне Родина наша находится в разрухе и опасности», «многомиллионное население Русской земли», «Собор не останется безучастным к положению, которое переживает Родина», «обновится лице свято‐русской земли»268. Протопресвитер о. Григорий Щавельский также в приветственном слове прибегает к понятию «родина», он говорит «Родина Святая»269. Московский Городской Голова В. В. Руднев упоминает Москву как «матерь городов русских», говорит о русском народе и родине в широком смысле. Во всех других приветствиях также основным понятием является слово «родина», много говорится о русском народе, есть обращения к Святой Руси, русской земле, русскому духу. Термин «отечество» почти не употребляется. Собор обратился с воззванием к Армии и Флоту: «христолюбивые воины, защитники и Церкви, и Родины нашей». «Что принесло и грозит еще принести Отечеству и Церкви неисчислимые беды», «в сердце русского человека стал затуманиваться светлый образ Христов», «непроглядная тьма окутала русскую землю», «стала гибнуть могучая Святая Русь», «За ваше безумие Родина уже заплатила врагу» (о тех, кто поддался революционной агитации и стал разрушать армию. – О. К.), «лучшими сынами Родины», «Ведь и вы сыны Родины», «совесть русского человека», «неисчислимые раны нанесли вы Родине – матери своей», «на развалинах и пожарище Святой Руси», «гибелью Родины», «истерзанную, опозоренную, попираемую врагом Родину свою», «русским свободным гражданам», «Святой великой Руси», «трудиться для Родины святой», «любовь к Родине», «В вашем мужестве и подвигах Родина черпает веру», «Великая Россия у края гибели, Родина зовет вас, спасите ее!», «именем наших предков, строителей отечества», «спасет и помилует вас и всю Русь Святую»270. Было решено напечатать это воззвание в количестве 500 тыс. экземпляров и отослать в армию. Князь Е. Н. Трубецкой озвучил воззвание к народу. Здесь звучат следующие понятия: «православному народу русскому», «Родина остается беззащитною», «Родина гибнет», «не допустите Родину до поругания и до позорного конца», «рабочие, подчиняйте ваши требования благу Родины», «Земля русская», «Русь», «Святая Русь»271. Это воззвание также решено было напечатать числом 500 экз. и отправить для чтения в храмах. В тексте обращения Собора к Временному Правительству также вместо Отечества везде употребляется слово «Родина»: «Об угрожающей Родине братоубийственной войне», «о великой ответственности всех русских людей перед Богом и перед Родиной», «величие Русской Державы», «сила русского воина», «ради спасения Родины», «власть русского военачальника подорвана», «русское войско», «от руки своих же братьев‐солдат погибло множество офицеров, преданных долгу Родины», «Церковь не может оставаться равнодушною зрительницею распада и гибели Родины», «между любовью к Родине и обязанностью повиновения власти», «власть должна быть не партийной, а всенародной. А народно‐русскою может быть только власть, просветленная верою Христовою», «для спасения Родины», «русской государственной власти»272.
На Соборе поднимался вопрос о месте Церкви в России. Был принят вариант, предложенный Пермским епископом Андронником: «Церковь… как величайшая святыня огромного большинства населения»273. Вопрос о русском народе как численном большинстве периодически поднимался в той или иной форме. Предлагалось, чтобы Собор рекомендовал правительству, чтобы в России все первые лица государства были русского происхождения («православного исповедания русской национальности»)274. Когда Временное правительство попыталось заключить сепаратный мир с Германией, то князь Е. Н. Трубецкой предложил Собору отреагировать. Князь подчеркнул, что «Священный Собор представляет из себя единственное законное представительство 100‐милли-оного православного Русского народа»275. Участники Собора в своих речах чаще говорят «Русская Церковь», хотя официально она продолжала называться Российской. Это прослеживается даже в официальных обращениях. Соборяне обращаются 24 августа (6 сент.) 1918 г. к Совету народных комиссаров от лица Православной Русской Церкви и Патриарха. В документе также Церковь обозначена как Русская276. Но, очевидно, по каким‐то неозвученным соображениям, вопрос не был даже вынесен на обсуждение. Если учесть, что Собору приходилось работать в сложных политических обстоятельствам и в условиях не менее сложных церковных нестроений (движения за автокефалию, набирающее силу обновленчество), то предпочтительнее было не делать неосторожных шагов. Вопрос о новом именовании Церкви разрешился лишь в 1943 г.277, когда русская тема стала для руководства страны опять актуальной.
Итак, за несколько десятилетий до революции 1917 г. в России, усилиями революционеров, в том числе художественно одаренных, таких как А. Н. Некрасов, создается миф об этническом пространстве – земле русского народа. Что нес с собой этот миф, и чем он принципиально отличался от средневековой русской пространственной концепции «русской земли»? Во‐первых, само понятие «родины», после того как оно стало макропонятием, заменяющим концепт «русская земля – отечество – Святая Русь», предполагало новое этническое самочувствие. Исчезало этнически пространственное «мы» и вместе него появилась совокупность множеств «я». Этническое пространство было рассчитано на дискретное восприятие. После же того, как Некрасов «освятил» новое понимание Родины, заменив образ Богородицы образом русской страдающей женщины, он фактически создал новый концепт в виде «родины‐матери». Дискретность каждого отдельного этнического «я» получала свое освящение уже не через Покров Божьей Матери, а через присутствие рядом «статуи» – каждой конкретной страдающей женщины и в целом – России – Родины‐матери. В этом «мемориальном этническом пространстве» и предполагалось отныне жить русскому народу, что и было реализовано на практике в советской России. До какой‐то поры только консервативные церковные силы, а в светской среде – славянофилы теоретически отстаивали прежнее, допетровское понимание этнических пространственных границ русских в таких совокупных понятиях, как «Русская Земля/Отечество/Святая Русь». Практическая реализация этого направления стала возможной через созидание новых женских общежительных монастырей как одного большого проекта Четвертого удела Богородицы. И все же это была далеко не вся Россия. Вполне возможно, что западники как самостоятельное направление, защищающее русский народ, смогли столь радикально реализовать себя в творчестве А. Н. Некрасова по той причине, что славянофильство ушло в область практических дел, когда стало активно участвовать в женском православном общежительном движении. Западники же остро нуждались в практической реализации своих идей. Но они, в отличие от славянофилов, смогли предложить обществу только миф о русском народе и русской женщине, реализовать который им помогла революция, потому что миф – это иллюзия, на практике требующая участия разрушительных стихий. Важно отметить, что к началу XX в. и в официальных кругах государства и в Церкви появились открытые симпатии к славянофильской деятельности, что было вызвано, скорее всего, все нарастающей радикализацией «некрасовского» направления. Поместный Собор констатировал, что Церковь уже готова была вернуться к допетровской этнической пространственной парадигме. К этому же тяготел и император Николай II, который готов был передать бразды правления сыну Алексею, а сам стать патриархом, как свидетельствует ряд источников. Но противоречие было уже неразрешимо по той причине, что западники уже сами подошли и подвели общество к точке невозврата, благодаря сформировавшейся модели реализации своих идей. В земном противостоянии Четвертого Удела Божьей Матери и воинственных дружин революционеров, поднятых западниками на защиту «родины‐матери», победа была обеспечена последним. В этом контексте объяснима и победа Красной армии над Белой армией, поскольку у первых за спиной была «родина‐мать», а у вторых – нечто разное, не всегда сводимое к духовному идеалу.
247
О войне, любви и вере. Переписка мичмана князя Александра Щербатова со своей невестой княжной Софьей Васильчиковой. 1904–1905 гг. / Сост. А. Е. Федоров. М.: Православный Свято‐Тихоновский гуманитарный университет, 2008.
248
Митрофан Сребрянский, свящ. Дневник полкового священника, служащего на Дальнем Востоке. М., 1996.
249
Николай Японский (Касаткин). Дневники. М., 2007. С. 437.
250
Заступничество Богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 года. Августовская икона Божией Матери. М.: Ковчег, 2010. С. 191.
251
Цит. по: Никольский П. К столетию со дня рождения А. С. Хомякова // Воронежский епархиальный вестник. 1904. № 9. С. 376.
252
Там же. С. 378.
253
Там же. С. 25.
254
Там же. С. 15.
255
Там же. С. 23.
256
Там же. С. 192.
257
Там же. С.45.
258
Там же. С. 77.
259
Существует известное изображение на эту тему.
260
Там же. С. 278.
261
Там же. С. 275.
262
Там же. С. 64.
263
Там же. С. 28.
264
Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 1. М., 1994. С. 1–5.
265
Там же. С. 20.
266
Там же. С. 35–37.
267
Там же. С. 29.
268
Там же. С. 33.
269
Там же. С. 36.
270
Там же. С. 98–101.
271
Там же С. 102–103.
272
Там же. С. 160–161.
273
Там же. Т. 4. С. 128.
274
Там же. С. 133.
275
Там же. С. 137.
276
Деяния Священного Собора… Т. 11. С. 115–118.
277
Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М.: Изд.‐во Спасо‐Преображенского Валаамского монастыря, 1997. С. 294.