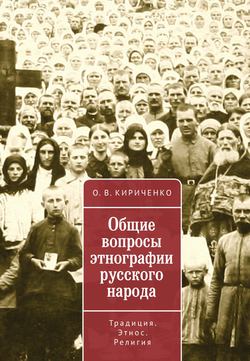Читать книгу Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Кириченко - Страница 4
Часть Первая
Традиция: этнографический контекст
Глава первая
Традиция с позиции православного мировоззрения
Славянство в русле рационального традиционализма
ОглавлениеЭра христианства подвела итог как иррациональной (дохристианской), так и рациональной традиционности. В одно мгновение были сняты оба противоречия: тайные знания об истинном Боге, которые имели ветхозаветные евреи, оставались по сути недоступными для других, несмотря на появление Септуагинты. В то же время открытые всему миру и объединившие его рациональные знания античности не давали увидеть истины, а только звали к ней. В христианстве традиционность соединилась в одном Имени, в одном Человеке, в одном Откровении, и родилась новая данность – христианская традиционность.
Судьбы восточного славянства в этой связи следует рассматривать в контексте указанных процессов. В период дохристианский (в мире) славянство входило в ойкумену распространения античных идей рациональной традиционности, но, судя по всему, реализовало их не столь бурно и производительно, воспринимая некоторые античные образцы как «конечный продукт», как внешнюю форму ценностей, а не как саму методологию античности. Славянство жило облегченной формой рациональной традиционности, хотя и было заинтересовано в обновлении социальной и духовной парадигмы жизнедеятельности. На принадлежность славян к рациональной традиционности могут указывать как общие соображения, так и вполне конкретные. Славяне после завоеваний Александра Македонского и после создания Римской империи и Византии вошли в культурную ойкумену с античным миром. Об этом говорят археологические факты38 и данные лингвистики39.
В период античной Греции Северное Причерноморье, скифский иранский мир стал посредником между греками и славянами. С этих времен Геракл вошел в круг почитания не только скифов, но и славян. Александр Македонский особенно почитался славянами как античный царь, который ввел славянский мир в пределы новой духовной и культурной традиции. На традиционный характер почитания Александра Македонского указывают многие факты и, прежде всего, включение этого образа в объект культурного внимания в христианское время. В литературе, в художественном творчестве подчеркивалась принципиальная важность этого исторического персонажа для славянской (а потом уже русской) традиционной культуры40. Неслучайным был и факт возникновения легенды (позднего времени)41 об участии славян в воинстве великого полководца.
Накануне принятия христианства восточные славяне находились в непростом политическом положении, на что влиял, прежде всего, сложный конгломерат религиозных сил вокруг их территорий, как об этом повествует «Повесть временных лет». Сначала восточное славянство было привлечено к политическому (и духовному) противостоянию нескольким традициям: христианской (греческой), иудейской (со стороны Хазарии), западнохристианской, архаично‐языческой (западной) в лице язычников‐викингов, архаично‐языческой (восточной) в лице кочевников Степи. Можно сказать, на острие клинка происходил религиозный выбор восточных славян: жизнь или смерть, слава свободы или бесславие рабства – эти политические вопросы были поставлены вместе с религиозным выбором. Античная рациональная традиционность не давала сил для объединения народа, и тогда вопрос был решен по‐другому. Чтобы создать крепкую военную машину для защиты и нападений, славянская элита (родовая и жреческая) поначалу выбрала для себя архаично‐языческий (западный) вариант идентичности. Это был откат в сторону уже почти ушедшей архаики. По аналогии с позднеантичным миром выбор архаики происходил для сиюминутной защиты собственных быстро разрушающихся политических границ. Прагматичный выбор был сделан частью восточнославянского общества – волхвами, среди которых находились и князья.
Восточное славянство накануне принятия христианства искусственно реанимирует архаичные культы, укрепляя позиции ритуальной традиционности. Это была именно реформа, как правильно замечает Б. А. Рыбаков, и коснулась она только Киева и только дружины князя42. По сути дела, в этот период славянской истории речь может идти о мистической секте жрецов, которые занимались обслуживанием политической деятельности князей. Элитный ее характер, особый род мистики (волхвование, ворожба) указывают на ее оккультный характер. Из ритуала выжимались последние соки, и этих «соков» хватало не на все общество, а только на узкую его прослойку. Остальное общество уже потеряло религиозную связь с ритуалом еще до принятия христианства. Несколько веков существования в условиях рациональной традиционности привели к тому, что религиозный ритуал постепенно перестал играть свою общесо-циальную мобилизующую роль, им обслуживались лишь политические интересы элиты. Что касается аграрной народной религиозной традиции, на которую неустанно указывают современные ученые, занимающиеся реконструкцией древнеславянского общества, то она отделилась от религиозного ритуала еще до принятия Русью христианства, т. е. стала религиозно немотивированной – прагматично аграрной, народной праздничной культурой, которая воспроизводилась населением как формальный обычай, но без той закваски, которую называют «продуцирующей магией».
К этому выводу нас приводят следующие размышления. Христианство было принято на Руси быстро и распространилось по славянским землям не насильственно, а мирно. «Огонь и меч» были употреблены против той части жреческой и политической элиты (новгородской), которая не желала менять элитную религиозность на общенародную веру. Но если бы народная вера имела к этому времени действительно крепкие языческие корни, то их нельзя было бы искоренить за столь короткий период, и народ не дал бы новой вере места под страхом смерти. Вера – это высшая ценность в древнем, традиционном обществе и, если она есть, ее защищают даже ценой жизни. Но у простого народа в то время уже не было живой языческой веры – вот почему новая вера была принята как данность, как выражение доверия слову крестившегося князя Владимира, а до того княгини Ольги.
У славян, несомненно, сохранялся в аграрной сфере комплекс сакральных знаний, передаваемых с самых древнейших времен, а именно со времени библейского праотца Сифа. Календарь был передан людям в Божьем откровении праотцу Сифу, эти знания были ритуализированы и носили, безусловно, священный характер для всех народов земли, независимо от времени и религии. Об этом свидетельствует множество фактов. Во‐первых, аграрный календарь – народный месяцеслов – сохранился до нашего времени (хотя и фрагментарно). Во‐вторых, в христианское время у русских крестьян существовало ничем не объяснимое с точки зрения рациональной (это объясняли языческими рецидивами) отношение к календарному циклу, как к некоему священному процессу. Были поклонения «неделе»43, «матушке Параскеве‐Пятнице»44, почитались те или иные цикличные даты (пусть даже они и не вписывались в православный календарь). В исследовании Р. В. Багдасарова о символике свастики на разных источниках прослеживается, как сакральные календарные знания со времен праотца Сифа передавались от поколения к поколению и дошли до славян. Автор пользуется письменными (хронографы, Палеи), археологическими и этнографическими источниками45. В третьих, у многих народов (например, индейцев Центральной Америки), вне зависимости от уровня развития математики, существовали астрономические и календарные знания «неизвестного» происхождения. В данном случае ученым, занимающимся этим вопросом, легче верить в инопланетян, занесших сюда знания, чем оказать доверие библейскому тексту. Таким образом, календарные знания относились к числу наиболее защищенных символических знаний у всех народов земли независимо от уровня развития.
Тот комплекс архаики, который застают российские ученые‐этнографы в XVIII–XX вв. в народной (крестьянской) культуре, был связан с календарной обрядностью и никак не может в целом указывать на сохранение языческих комплексов в христианский период. В частностях же мы можем говорить об имеющих место и в христианской Руси (России) разного рода суевериях, магически рациональных действиях, которые были привязаны к календарной обрядности. Сохранялась не религия язычества, а лишь то, что ассоциировалось с древним, священным знанием, приросло к нему (к календарю) и освящалось его именем.
Религиозный аскетический опыт у русского народа в рамках новой православной традиции складывался постепенно. Более быстро шло христианское воспитание княжеской и околокняжеской верхушки, имеющей возможность сразу же приобщиться к христианской книжности, иметь рядом опыт монастырской жизни. Но для простого народа премудрости веры открывались постепенно, с ростом монастырей и храмов, с распространением проповеди, после долгих трудов миссионерства. Церковь не случайно долгое время относилась снисходительно к народным аграрным праздникам; для простых людей эти праздничные обряды уже не имели религиозного значения, не были инструментом «продуцирующей магии», ведь сутью праздника была сама стихия праздника, сам факт праздничного веселья, а не принесение жертвы, ворожба или колдовство. Праздничное веселье было открытым, не ритуальным, живым и внерелигиозным. Причина, по которой Церковь все же стала запрещать некоторые аграрные народные праздненства (Купало, Ярило, Кострома), заключалась в формальном, но сохранении языческого прошлого. Например, наличие образов идолов‐кумиров, которым народ хоть и не поклонялся, но устраивал с ними игрища и веселье. В целом же на Руси так называемая карнавальная народная праздничная культура являлась локальной (на селе, а не в городе) и не была так рационализирована, дополнена, расцвечена и усилена интеллектуальными возможностями города, как это случилось на Западе.
Вопрос о двоеверии, или «народном православии», в христианстве был поставлен в этнографии теми учеными, которые отказываются видеть в «народной» вере церковную веру. Одни из них делают это потому, что считают народ исконным носителем языческой архаики46. Другие говорят о неспособности народа дорасти до «церковной веры» и рассматривают его как «серую массу», всегда склонную к суеверию. Известный церковный автор пишет на эту тему: «Да, можно говорить о народном «двоеверии», о пережитках язычества и магии в народном понимании церковной обрядности» 47.
Такое огульное обвинение народа в маловерии не является новым. И в XIX в. отдельным дореволюционным исследователям приходилось защищать церковную честь русского народа, которой его лишали сторонники двоеверия. За этой проблемой стоит и другая: вопрос о сознательном и массовом (или единичном) участии народа в церковной жизни. Исследовавший эту сторону вопроса Г. Троицкий писал о самих широких полномочиях церковного народа: «Роль мирян в жизни Церкви касается области вероучения, богослужения, церковного законодательства и административно‐церковной деятельности». В статье приводится послание восточных патриархов от 6 мая 1846 г. папе Пию IX, где вполне определенно о народе говорится: «Хранитель благочестия у нас само Тело Церкви, т. е. сам народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменной и согласной с верой отцов его»48. Важным в этом смысле является свидетельство М. А. Новоселова о народе в пору революционного лихолетья: «Святыню истинной Церкви против живоцерковного нечестия отстаивал, главным образом, народ»49.
Ни Церковь, ни христианское государство в России до 1917 г. не исповедовали двоеверие, не были лояльны к исповедованию христианами двух вер, поэтому легально двух вер не существовало, как это было в античной Греции. Но и нелегально языческая вера в христианском обществе параллельно христианству не могла существовать. Если вторая вера – языческая – у народа была, то у нее должны были быть все атрибуты, присущие любой вере: жрецы, места религиозного поклонения, религиозные ритуалы, обряды, жертвоприношения. Ничего этого у простого русского народа после принятия христианства не было. Все то, что можно отнести к непониманию каких‐то элементов веры, незнанию церковных текстов, маловерие, суеверие – все это указывает только на степень овладения верой. Кто‐то был более верующим, кто‐то – менее. Были святые, подвижники, были просто благочестивые христиане. Но существовали и маловеры, теплохладные, неверующие. Но даже у последних не было условий жить в язычестве, одновременно являясь формально христианами. Между тем исследователи «народного православия» и «официального православия» безапелляционно говорят, что народ в целом исповедовал народное – полуязыческое православие, а церковные деятели представляли «официальное православие». Святые и подвижники были выходцами из самых разных социальных слоев. Мог ли народ‐двоевер породить целый сонм святых и подвижников, а потом – новомучеников, если таковые не являлись именно из гущи народной?
38
Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994. С. 101, 146, 180, 210, 233, 235, 274.
39
Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 2002. С. 50. Автор пишет о контакте славян с иранскими племенами с середины I тысячелетия до Рождества Христова., но при этом считает, что в славянстве не было античной струи. «Здесь (у славян) еще нет острого осознанного интереса человека к самому себе (античные и общечеловеческие достижения «человек – мера всех вещей» и “познай самого себя” лишь дремлют в этой ранней идеологии), но здесь нет еще и развитой религии» (С. 218).
40
Панкова Т. М. Один из средневековых сюжетов декоративного искусства и его трансформация в русской народной вышивке XVII–XIX вв. // Традиции и современность. Научный православный журнал. 2003. № 2 (2) С. 83—93.
41
Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI – начала XVIII века. СПб., 1996. С. 45.
42
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 412–454.
43
Рыбаков. Указ. соч. С. 595.
44
Тульцева Л. А. Рязанский месяцеслов. Круглый год праздников, обрядов и обычаев рязанских крестьян. Рязань, 2001. С. 14–15.
45
Багдасаров Р. В. Указ. соч. С. 55–57.
46
Критика этого направления осуществлена в статье М. М. Громыко «О единстве православия в Церкви и в народной жизни русских». См: Традиции и современность. Научный православный журнал. 2002. № 1. С. 25–28.
47
Кураев Андрей, дьякон Оккультизм в православии. М., 1998. С. 5.
48
Троицкий Г. Роль мирян в жизни и миссии Церкви // Журнал Московской патриархии. 1969. № 9. С. 70–71.
49
Новоселов М. А. Письма к друзьям. М., 1994. С. 159, 174.