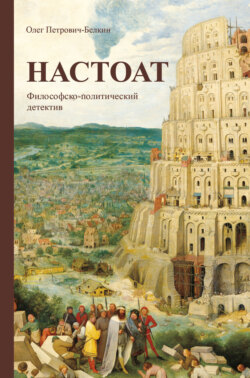Читать книгу Настоат - Олег Константинович Петрович-Белкин - Страница 8
Глава VI
La creazione di Nastoatho[19]
ОглавлениеЯ смотрю на него, стараясь не напугать. Милостиво, мягко и благосклонно. Есть что-то нелепое в его маленьком, тщедушном тельце, в быстро бегающих, не способных сконцентрироваться глазках. Почему он так меня боится? Чем столь горячо восхищается? Он сидит напротив в просторном кресле и иногда даже решается застенчиво заглянуть мне прямо в глаза – но лишь на мгновение; спустя секунду мой крохотный гость со страхом переведет взгляд на мокрое от дождя окно, или на гусиные перья, стоящие на столе, или на что-то иное в окружающем нас дворцовом убранстве.
Ноги его столь коротки, что не касаются пола; он чувствует себя неуютно, скованно, напряженно. Мне жаль Малыша – он работает на меня добрый десяток лет, а я все так же изредка забываю его имя… Он выглядит, как последний бродяга – шинель, шарф, туго опоясывающий тонкую, покрытую глубокими шрамами шею. Лишь красивый самурайский меч, сиротливо приютившийся в углу, выдает в нем патриция, господина благородных кровей.
А между тем это – самый богатый человек во всем Следствии (исключая, разумеется, меня и суперинтенданта – мошенника, на котором клейма негде ставить!). Однако никаких претензий, все справедливо – я плачу Малышу огромные деньги за идеальное, безукоризненное выполнение моих поручений; он – самый ценный и добросовестный помощник из всех, что меня окружают. Пожалуй, он мог бы купить себе роскошный замок где-нибудь в Тоскании – западной префектуре Ландграфства, или обзавестись виллой на берегу озера Комо, разбить виноградники с тысячей крепостных, или, на худой конец, назвать в честь себя какой-нибудь проспект или мостик – в общем, сделать все то, что, невзирая на бесконечную и с каждым днем усиливающуюся грозу, позволяют себе остальные сотрудники Великого следствия – глупые и бездарные, слабые и никчемные, бесцеремонно летящие в сверкающих колесницах по полуразвалившимся улицам древнего Города. Полные, абсолютные ничтожества, половина из которых к тому же еще и шпионы Курфюрста – жалкие соглядатаи, приставленные ко мне выжившим из ума стариком и его послушной марионеткой Деменцио Урсусом. И, черт побери, убрать этих тварей – пиявок, присосавшихся ко мне и пока еще живому телу Ландграфского следствия, – даже это мне сейчас не под силу; даже здесь мне требуется одобрение со стороны двух безмозглых, стоящих выше меня идиотов. Я скован по рукам и ногам – Я, третье лицо в государстве – бесправный и бессильный, как никогда прежде, Начальник Великого следствия…
Но ничего, скоро все поменяется: скоро я раскрою это внезапно оказавшееся не столь простым дело – и тогда… Тогда… Я смету с прогнившего пьедестала ветхого, изжившего себя старикашку – и восстанет из пепла, подобно Фениксу, Вечный наш Город; и вернется благословенный золотой век, и расправит крылья свои над измученной, пропитанной кровью землей… Мечты, фантазии, суждено ли вам сбыться? Порой меня гложут сомнения и исподволь одолевает печаль: что если все это тщетно? Что если уверенность, не покидавшая меня с самого детства – уверенность в собственных силах, в моем великом предназначении и счастливой звезде, – это не более, чем иллюзия – дурманящий, успокоительный самообман? Темные, страшные мысли… Холодея, я гоню их прочь от себя.
Из-за двери доносится шорох: очередная крыса припала к замочной скважине и ждет, с упоением ждет, чем бы ей поживиться – какую информацию стащить у меня и отнести Деменцио Урсусу… Отвратительно! Какая же гниль меня окружает!
Но не таков он – тот, что сидит напротив. Он предан, преклоняется перед моей властью и делает это честно, не наигранно, откровенно; душа его чиста, что дуновение весеннего ветра. Неудивительно, что этот Малыш стал мне столь дорог.
Дункан Клаваретт сегодня явно не в духе. Он молча ходит взад и вперед по своей изысканной, роскошной приемной, что призвана подчеркнуть аристократизм и монументальность Следственной власти. На фоне гигантского стола из красного дерева, загроможденного сотнями и сотнями уголовных дел – незначительных, мелких, недостойных даже упоминания, – крохотная фигурка Йакиака выглядит игрушечной, ненастоящей; да и сам он кажется столь смущенным и оробевшим, что видом своим подобен заводной кукле, движимой лишь внешнею силой.
Аромат благовоний, богато разлитый по комнате, смешивается с запахом перегара – вчера у Дункана был непростой день, а сегодняшнее утро и вовсе кажется ему адом. Со стен, покрытых позолотой и разноцветным орнаментом, безучастно взирают портреты, писанные лучшими художниками Города, и, хотя Йакиак уже несметное число раз имел честь находиться здесь, в светлейшей приемной Начальника следствия, он по-прежнему боится смотреть им в глаза, ибо страх, что они оживут, сойдут с полотен и заполонят весь окружающий мир, не оставляет его ни на секунду.
Почему, ну почему он молчит? Просто ходит из стороны в сторону, погруженный в свои мысли. Наверное, я что-то сделал не так – похоже, он недоволен… А как неловко я давеча поздоровался: «Здравствуйте, господин Клаваретт!» Это ужасно, ужасно… Как посмел я не назвать его полным титулом, не прибавить «Ваше Высокоблагородие»? Господи, какая страшная, чудовищная ошибка, он мне ее никогда не простит! Такой великий, величайший человек, а я, я… маленький, крошечный винтик, пылинка, шуруп, насекомое… И только что раз и навсегда утратил доверие Дункана.
Как же теперь быть? Как все исправить? Надо что-то делать, что-то придумать, непременно что-либо предпринять… Это грех, преступление, вопиющее неподчинение власти. Проклятье падет на мои седины! Уничижение, покорность и полное смирение перед властью в надежде исправить все то, что я натворил, – вот единственный выход… Отдать себя в руки Начальника следствия; всю судьбу, всю жизнь даровать ему – он решит лучше; он умнее, выше, сильнее, благороднее меня. Да как я вообще смею сравнивать себя с ним?
Дункан, увещеваю Вас, не мучьте, вымолвите хоть слово! И обещаю, клянусь – я отплачу священной преданностью, всю личность свою растворю в Вашей царственной воле. Я сделаю так, что разум мой, тело, самая душа станут послушным, податливым инструментом в руках Великого следствия. Только простите, простите за эту ужасную дерзость! Умоляю, прошу, взгляните на меня… Пока Вы мыслите, я существую!
Нет! Он поднимает глаза, смотрит на мою грешную душу… Надо отвести взгляд, я этого не выдержу. Пришел мой конец!
Тихо, словно издали, я слышу:
– Йакиак, дорогой, прости, что заставил тебя ждать. Задумался… Вчера был прием по случаю Дня Городского единства – и я, как обычно, слегка перебрал.
Начальник следствия виновато улыбается. Боже! Стоять на краю пропасти и чудом обрести спасение! Слава тебе, Господи, слава тебе!
Глубоко вздохнув и одернув мундир, Дункан Клаваретт бережно поправляет золоченые геральдические вензеля, вышитые на левом лацкане, и участливо продолжает:
– Ладно, перейдем к делу! Только для начала переберемся в мой кабинет – а то здесь повсюду вражеские уши.
Начальник Следствия со злостью смотрит на дверь, за которой, как ему думается, притаилась добрая сотня, если не тысяча предателей и шпионов. Паранойя то или нет, но чувство тревоги и незащищенности всегда усиливается на следующий день после попойки. Резкие звуки, косые взгляды, намеки. Все неспроста! Поэтому и для разговора нужно найти более укромное место.
Малыш послушно кивает и спрыгивает с кресла.
Яркий свет, разлитый по просторной, щедро уставленной мебелью приемной Дункана Клаваретта сменяется тусклым отблеском нескольких керосиновых ламп, развешанных по углам его личного кабинета. Аскетическое убранство и монашеская простота этой полупустой кельи всегда приводили Йакиака в благоговейный трепет; с поистине детским восторгом он сознавал, что не в официальной, сверкающей роскошью и златом приемной, а здесь и только лишь здесь, в святая святых огромного, сумеречного замка вершатся судьбы простых смертных, имевших несчастье попасть в поле зрения Великого следствия. Отсюда, из самого сердца Дворца правосудия, тянутся сотни и тысячи нитей, ветвящихся, пересекающихся и в конце концов сплетающихся в единую агентурную сеть, покрывающую собой, подобно теплой, благодетельной паутине, измученное тело умирающего Ландграфства.
Смутные тени от пляшущего в лампах огня красиво ложатся на бумаги, в беспорядке разбросанные по всему кабинету; резвясь, они игриво прыгают по поверхности старого, покосившегося секретера, стонущего под тяжестью книг, документов и целого семейства фарфоровых статуэток. Дункан жестом указывает на низкое кресло, идеально подходящее маленькому гостю.
– Дружище, присаживайся! Теперь мы можем говорить спокойно, не страшась чужих глаз и ушей. Итак, какие у нас новости?
Йакиак, бледный, смущенный, обливающийся потом, часто и взволнованно дышит; утопая в маленьком кресле, он растерянно перебирает бумаги, исписанные ровным, каллиграфическим почерком.
Какое счастье, что Дункан не заметил моей дерзкой оплошности! Сотрудники Следствия только и делают, что насмехаются надо мной… Как часто, поджидая в залах дворца, или совсем подле дома, или в темных, пустынных переулках мертвого Города, они так и норовят оскорбить, унизить, причинить мне невыносимую боль. Они срывают, топчут шинель, отбирают мой меч – единственное средство защиты. И только расположение светлейшего Дункана Клаваретта спасает меня от полной расправы.
За что, за что они меня ненавидят? Зачем обижают? Неужто я сделал что-то плохое? Они – звери; наше общество давно и смертельно больно… Разве не проявлял я всегда смиренного, добродетельного послушания, разве не был лишь тенью, безмолвным отражением подлинного человека? А как же могут существовать герои без своей собственной тени? Нет тени – нет их самих! И напротив: коли они есть – значит, должен быть я. Если есть сила деятельная, могучая, подобная Дункану, то есть и страдательная, а потому – беззащитная. А как же иначе? Разве может не быть в этом мире чего-то или кого-то, все предназначение коего состоит в помощи и восприятии силы первой, главной и созидательной, в подчинении власти, в безропотном и беспрекословном исполнении всех ее пожеланий? Именно это и есть я; именно так и служу я Великому Следствию!
Я есть ничто: материя без формы, форма без содержания. Однако, не будь меня, разве был бы столь могуществен Дункан, разве была бы власть его столь сиятельна и горделива? Да и где была бы она, та власть, если б не существовало никого, кто бы ей подчинялся? Как не понимают они, мои мучители и гонители, что я такая же неотъемлемая часть власти, ее важнейшая ипостась, как и сам Дункан, как Деменцио, как богоподобный Курфюрст – да святится их имя в веках! Кем управляли б они, не будь меня и подобных мне Йакиаков?
Священное обаяние власти всегда приводило меня в трепет, я восхищался им, отдавая всю душу свою, сердце служению – ибо помнил я мудрейший завет предков: Власть подобна ветру, мы – лишь траве; коли он дует, не противься и покорно склоняй голову ниже! Так говорил Заратустра… А может, Конфуций. Да есть ли, в сущности, разница?
Руки трясутся. Пора переходить к делу, а я все никак не могу привести в порядок бумаги…
– Простите… Простите, ваше высокоблагородие! Я такой неуклюжий… Извините, что задержал! У меня все готово. Разрешите начать?
– Конечно, Йакиак, самое время! Я в предвкушении. Скажи, что там насчет личности подозреваемого?
– Ваше святейшество… светлейшество… превосходительство… По правде говоря, тут дела наши плохи: генетическая экспертиза ничего не дала. Совпадений не выявлено, личность не установлена. А что касается более продвинутых методов – передовых технологий, так сказать… К ним, к сожалению, доступа нет никакого. Вот уже несколько недель, как ландграфские лаборатории по какой-то причине закрыты. На дверях – громадный замок. И даже личное распоряжение Начальника следствия – ваше распоряжение! – не помогает… Представляете? Не пускают авгуры – и все тут! Приводят самые разные объяснения. Сначала дезинфекция… Затем нехватка свечей и керосина для обогрева реактора; а буквально вчера – утрата технологии изготовления колеса и железа. В довершение ко всему иссяк запас апейрона – датчики не работают, свет отключился. В общем, сама судьба мешает нам раскрыть дело… Видимо, во всем виноваты укары!
– Йакиак, конечно – укары, как же иначе?! – Дункан саркастически машет рукой. – Как ты наивен, друг мой, как ты наивен! Неужто ты позабыл, в чьем ведении находятся Ландграфские лаборатории? И кто управляет религией и наукой? Это все сволочь, слабак, подлая и инфернальная мразь Деменцио Урсус! Он, именно он ставит нам палки в колеса – боится, что я распутаю дело и обрету популярность… Да уж, оказывается, у подозреваемого есть покровители, о которых он даже не догадывается! К сожалению, друг мой, таков закон жизни: у слабохарактерных негодяев типа Деменцио Урсуса жажда власти всегда идет рука об руку с вероломством и преступлением.
Йакиак ощущает неловкость; маленькое лицо его выражает недоумение, страх, беспокойство. Те речи, что слышит он сейчас от Дункана Клаваретта, он предпочел бы не слыхать никогда и ни от кого во всей своей жизни.
– Ну что вы, ваше превосходительство… Как же! Деменцио – представитель верховной, самой что ни на есть высшей власти, не подлежащей никакой критике. Уважаемый Дункан, разве может быть то, о чем вы сейчас говорите! Всем ведь известно, что Деменцио Урсус – величайший, достопочтенный сановник, светоч, гений, столп нашего Города. Разве способен богоподобный, лучезарный Курфюрст – само олицетворение власти – держать подле себя человека, подобного тому… тому… ничтожеству, что вы только что описали? Ваше сиятельство, я верю всем сердцем… убежден, что речь идет токмо о недоразумении, но никак не о заговоре – и скоро Ландграфские лаборатории будут полностью к нашим услугам!
Дункан, Господи, как не боитесь Вы произносить столь дикие, безумные, кощунственные речи? Вся власть Ваша есть эманация, истечение, нисхождение силы Деменцио, а та, в свою очередь, берет начало из Абсолюта, Единства, заключенного в непогрешимой фигуре Курфюрста. Как можете Вы критиковать силу, Вас породившую? Я восхищаюсь Вами, преклоняюсь – и это на всю жизнь; но мне страшно, я чувствую холод в замирающем сердце: как осмелились Вы бросить вызов началу, стоящему неизмеримо выше каждого из простых смертных? Самому средоточию, квинтэссенции власти… Это грех – ужасный, неискупимый, ввергающий подданных во искушение. Ибо до́лжно помнить: весь смысл существования нашего, о великий Дункан, состоит в самозабвенном служении верховным формам породившей нас власти: для меня это Вы; для Вас – Деменцио; для него – равно как и для остальных граждан – всеправедный, благочестивый Курфюрст, что распростер свои крылья над вверенным ему государством.
Дункан Клаваретт милостиво усмехается.
– Йакиак, поверь, помощи ждать неоткуда! И почему тебя так страшат мои слова о Деменцио? Он – не более чем лживая, беспринципная тварь. Свинья, волею судеб вознесенная к вершинам Ландграфской администрации. И до лабораторий, увы, мы добраться вряд ли сумеем… Сегодня у них не хватает апейрона и керосина, завтра, вот увидишь, последует угроза нападения со стороны укаров или Остазии, а затем подоспеют мор, саранча и казни египетские. В общем, предлог непременно найдется! Ладно, оставим эту печальную тему. Что у нас дальше?
– Да, ваше высокоблагородие, давайте не будем… Отступим! Не пристало никому осуждать деяния верховных форм власти, дарующих силу и бытие нам обоим. По правде говоря, мы светим лишь отраженным светом, дарованным свыше… Я имею в виду, мы существуем и действуем лишь в той мере, в какой частичка, мельчайший отблеск бесконечной, всеблагой власти присутствует в наших душах.
Едва сдерживая смех, Дункан кивает. Подливает в опустевший стакан воды из графина. Жадно пьет. Вот так новость! Малыш, оказывается, собственные теории имеет. Удивительно! Никогда бы не подумал!
– Не сочтите за несогласие, господин Дункан… Просто… Я хотел сказать, что Курфюрст подобен Отцу, дарующему Слово, – а оно, великое, животворящее, доносится до горожан благословенным Деменцио Урсусом, тяжко страдающим за ошибки наши, грехи и преступления. Он, именно он отвечает перед Курфюрстом за пороки и злодеяния, столь распространенные среди граждан, за превратно понимаемую ими свободу, за кощунственное вольнодумство и наглую, дерзновенную критику. В том и состоит тяжкий крест Деменцио Урсуса. Ну а вы, вы, ваше светлейшество… Вы… не что иное, как сам Дух власти, осеняющий нас своей благодатью, – и оттого я столь счастлив, что служу Великому следствию! И готов судьбу свою, разум, мысли, желания – все это вверить воле священного всегосударственного механизма о трех Лицах и ипостасях – Курфюрста, Деменцио и Дункана Клаваретта. Единое, Ум, Душа – вот что вы трое значите для нашего Города! А мы – лишь материя, созидаемая и одухотворяемая вмешательством свыше…
Ха-ха-ха! Поразительно! Малыш поет, что соловей – даже перестал запинаться; да и косноязычия его как не бывало. Прекрасная, сладкоголосая птичка… Главное – не вслушиваться в тот бред, что доносится из ее клюва!
Черт возьми, Йакиак, ты ведь ни Курфюрста, ни Деменцио Урсуса отродясь в своей жизни не видел – зато говоришь о них с таким придыханием! И не веришь, подумать только, не веришь – когда я, знающий их не понаслышке, рассказываю тебе о вероломстве, скотстве, ничтожестве, о потере ими всякого человеческого облика. Да, дорогой Малыш, ты не ошибся: Курфюрст и Деменцио Урсус – это не люди; но не потому, что они выше и благороднее граждан, – нет, напротив, они ниже, уродливее, подлее, безобразнее их. Разве можно назвать людьми тех, кто по сути своей – крысы, шакалы, помесь свиньи и барана? Место им – на вертеле над ярко горящим костром.
Курфюрст, Деменцио, обещаю: Карфаген вашей преступной власти будет разрушен. Carthago delenda est[20].
Машинально перебирая бумаги и гусиные перья, Дункан благодушно и сладостно улыбается. Вздрогнув, словно опомнившись, и поняв, что пауза затянулась, он мельком бросает взгляд на Йакиака и возвращается к разговору:
– Дружище, мне очень интересен ход твоих мыслей. Но давай ближе к делу!
Малыш смущенно потирает крохотные, почти детские ручки.
– Простите, ваше высокоблагородие… Я заканчиваю. Только хотел добавить – одно, последнее, самое важное! Видите ли… Еретики, раскольники, иноверцы, множащиеся день ото дня, отважно и безрассудно кричат, что они якобы право имеют. Говорят о некоей переоценке ценностей: мол, нет среди нас тварей дрожащих. И вроде бы так, вроде все правильно… Да только забывают они, что по природе своей человек не свободен: мы не есть целое, мы – малая часть, толика, отражение божественной воли Курфюрста, коя живет не вне, но внутри нас. Тираноборцы – глупцы… либо наймиты… не понимают они, что во взглядах их нет ни смелости, ни ума, ни здравого смысла; в них – лишь подлость да вопиющий вызов тому, кого невозможно объять человеческой мыслью. Ведь если не Он, не Курфюрст, – то кто? Кто на его место? Разве есть реальные кандидаты? Он – это Город; без Него не существует Ландграфства… Гнусные укары отринули Курфюрстову Волю, возведя идол Мадания и нечестиво отпав от святого, целомудренного тела Отчизны. И что с ними сталось? Молох – вот их хозяин; свобода есть рабство, а любые мысли о ней греховны по сути!
Смех Дункана звонким эхом отражается от пыльных стен комнаты. Малыш, ха-ха-ха, что ты со мной делаешь! Какая детская, наивная непосредственность! Так мило… Будь ты щенком, почесал бы за ушком! Поднял мне настроение!
Но, как ни печально, пора c этим заканчивать – нет сил более слушать эту безумно смешную, но нелепую ахинею!
– Йакиак, дружище, остановись! Я вижу, сколь сильно ты предан святому, богоизбранному Ландграфству – ледяной пустыне, по которой бродит лихой человек. Но не путай любовь к Городу с любовью к его власти. Поверь, ни ничтожный Деменцио Урсус, ни тронувшийся умом Курфюрст не заслуживают благорасположения твоего чистого, добродетельного сердца. А потому давай прекратим бесплодные споры и вернемся к нашему «тяжелобольному» преступнику. Точнее, подозреваемому… Продолжай доклад, Йакиак, и не отвлекайся, пожалуйста, на абстрактные темы!
– Да, конечно, как вам будет угодно! – Маленькое лицо Йакиака с виноватыми зелеными глазками, робко прячущимися за толстыми стеклами очков, расплывается в мягкой, подобострастной улыбке. – Как я уже говорил… простите, как имел честь сообщить вам – личность подозреваемого пока не установлена. В этой связи есть предложение: давайте ради удобства называть его Настоа́том. Так мы издревле зовем всех, о ком не имеем ни понятия, ни представления… Мне кажется, имя подходит. Есть в нем нечто… близкое, подлинное, что ли… Идеально согласующееся с его внешним обликом. Настоат – это звучит гордо!
Неприятный холодок пробегает по спине Дункана. Двери плотно закрыты, сквозняка нет; старинные масляные лампы горят, как и прежде. Откуда тогда ветер?
– Необычное имя. Чуждое, непостижимое. От него веет чем-то… потусторонним и мрачным. Какой-то пустотой, льдом, предчувствием бедствий… Впрочем, к черту сентенции! Ты прав – довольно с нас суеверий. Будем звать Настоатом.
– Отлично. – Йакиак едва заметно кивает. – В таком случае позвольте отчитаться по поручениям: я встретил Настоата в Больнице – и выполнил оба ваши задания!
Дункан, меланхолично раскачиваясь в кресле и пытаясь понять причину обуявшего его беспокойства, задумчиво выводит на пергаменте странное, незнакомое слово: «Настоат, Настоат, Настоат». Встрепенувшись, он удивленно смотрит на Йакиака.
– Два поручения? О чем ты? Я просил проводить подозреваемого к его новому дому – и только!
В испуганном взгляде Йакиака читаются непонимание и тревога.
– Как же, ваше светлейшество! А второе задание, которое вы дали мне через самого Настоата? Показать ему дорогу в обитель Энлилля, провести сквозь лабиринты больничных покоев. Подозреваемый сказал, что вы будете на седьмом небе от счастья, коли я достойно справлюсь с приказом. И, честно говоря, это было непросто…
Позвольте рассказать! Мы были в пути не менее сотни часов; окрест нас то и дело витали больничные духи – не знаю, видели ли их Настоат или его проклятая собака, что не давала мне ни минуты покоя… Но я созерцал их ясно, будто в сиянии света; слышал их скорбь, боль и горестный плач. И все они: неупокоенные младенцы, прелюбодеи, чревоугодники, расточители и скупцы, одержимые гневом безумцы, еретики, язычники, убийцы и богохульники, обманщики и предатели – все взывали к собаке и Настоату, прося забрать их в покои Энлилля и оставить там навсегда – или, по крайней мере, даровать еще один шанс. Конечно, все это было иллюзией, порожденной усталостью и беспокойством; все мне привиделось – но картина сия была столь изумительна и чудесна, что… что…
Радостный, улыбающийся, погруженный в воспоминания Йакиак, внезапно заметив ярость в глазах Начальника следствия, в ужасе осекается:
– Простите… Сбился… Просто хотел сообщить, что второе поручение оказалось исключительно сложным… Но я его выполнил. С честью, с достоинством выполнил!
Темные, призрачные силуэты – тени в мерцающем свете керосиновых ламп – словно насмехаясь над Дунканом Клавареттом, неистово пляшут по его лицу и мундиру. Всемогущий Начальник следствия ногтями впивается в эфес собственной шпаги. Тяжелый вздох, еще один – и вот он уже на ногах; кресло с грохотом падает за его широкой спиной.
– Йакиак, черт тебя побери! Что ты несешь? – Рев Дункана слышен на весь замок. – Какие младенцы, чревоугодники, прелюбодеи, мать их всех за ногу? Какие еще больничные духи? Ты сам себя слышишь? Но главное… Главное… Сколько приказов ты от меня получил? Один? Два? Ты считать не умеешь? Ответь мне, ответь сию же секунду: кто твой начальник?
Бледный, дрожащий Йакиак, не в силах совладать с паникой, пытается вымолвить хоть слово. Тщетно… Звуки стерлись, исчезли, растворились в сумраке страха.
Дункан с размаху бьет кулаком по секретеру, и полупустой стакан, сиротливо приютившийся с краю, падает, разбиваясь вдребезги. Гнев не стихает.
– Так кто, кто твой начальник? Я? Я или, черт возьми, этот не в меру смышленый преступник? Да как… как вообще такое возможно?! Запомни! Заруби себе на носу: ты должен повиноваться мне и только лишь мне! Делать то, что я тебе говорю, и ничего иного сверх отмеренного! Скажи, как тебе в голову взбрело подчиниться кому-то другому? Идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты… свел двух подозреваемых вместе! Это могло закончиться чем угодно – убийством, нападением, сговором…
Мы откатываемся в расследовании назад! Оно и так идет ни шатко ни валко! Перспективы более чем сомнительны и туманны. – Ярость в глазах Дункана медленно догорает, растворяясь среди стен холодного, плохо отапливаемого кабинета. – Что ты за человек такой, Йакиак… Нельзя быть столь легковерным! Ладно, ладно, не хнычь – теперь уже ничего не поделать. Плохо, конечно – но мы все исправим.
Йакиак не в силах пошевелиться. Страх сковал его маленькое, почти детское тельце, мелко дрожащее под толстой шинелью. Какое ужасное, тошнотворное чувство… «Существование – вот чего я боюсь».
Минута молчания. Дункан кружит по кабинету, то и дело наступая тяжелым кованым сапогом на осколки стакана. Последняя волна гнева бессильно бьется о скалы, оставляя в душе Начальника следствия лишь стыд да полынную горечь досады.
– Прости, Йакиак! Я сорвался… Не должен был – это недостойно, подло, неблагородно… – Дункан виновато смотрит на своего крошечного собеседника. – Но пойми и меня тоже: наше расследование – это все, что осталось… Провал будет стоить мне жизни. Нет-нет, никто меня тронуть не посмеет – в случае неудачи я сам наложу на себя руки. Вот почему, дорогой Йакиак, я столь вспыльчив, резок, несдержан… Прости! Надеюсь, ты понимаешь…
Что я наделал? Малыш едва дышит… Он, конечно, виновен – но нельзя, нельзя давать волю эмоциям; они губят, пожирают тебя изнутри! Надо собраться! Оглянись, Дункан, к чему ты пришел – расследование поглотило тебя целиком; не ты занимаешься им – оно раскрывает тебя…
И вообще: что делать дальше, куда идти, в каком направлении двигаться? Может, просто сфабриковать улики?! Преступник был бы вздернут; Курфюрст, несомненно, повержен; ну а Деменцио, пожалуй, я сослал бы в Березов – пускай гниет там, снедаемый малодушием, своей змеиной, желчной натурой.
Мечтать, конечно, не вредно! Но я ведь знаю, твердо знаю, что оного никогда не случится – подбросить улики не позволит мне совесть. Мой путь – это путь чести. Тем более что чем дольше идет дело – а точнее, чем дольше оно топчется на одном месте, – тем менее я уверен в виновности Настоата… Боже, какое все-таки дикое, пугающее имя! В нем словно заложена вся печаль мира – и почему Йакиак этого не замечает? Ладно, не время предаваться раздумьям – пора утешать Малыша, исправлять последствия собственной импульсивности!
Обойдя пыльный, шатающийся стол, переживший не одно поколение Начальников следствия, Дункан склоняется над сжавшимся в комочек, испуганным Йакиаком и по-отечески обнимает его содрогающееся в рыданиях тело. Господи, он совсем как побитый котенок – такой же крохотный, беспомощный, затоптанный жизнью… Какой я мерзавец – самому от себя тошно!
И видит Дункан, как маленькие ручки Йакиака в страхе сжимают обитый бархатом подлокотник старого кресла; и слышит он, как кабинет наполняется тонким, жалобным плачем. Шарф упал с исхудавшей, покрытой шрамами шеи; слезы, горькие и обжигающие, текут по щекам, капая на бордово-красную, под цвет человеческой крови, шинель – роскошную, заботливо вычищенную, с щегольскими иссиня-черными отворотами.
– Дружище… Прости! Я не хотел… Просто сорвался! Ты же знаешь, как я тебя ценю, уважаю! Как восхищаюсь твоим острым, пытливым умом и неподдельной, подкупающей искренностью! Без тебя я – да все мы, все Великое следствие – словно без рук… Обещаю: больше тебя никогда не обижу! Ты же мне веришь? Веришь честному слову Дункана Клаваретта? Йакиак… Йакиак… Мой добрый друг… Пожалуйста, послушай!
Но нет, все тщетно – Малыша так просто не успокоить. Я всегда знал, что утешать слабое, несчастное, беззащитное существо – впрочем, как и любящую женщину – это самая сложная в мире задача. Невозможно подобрать слова, а подобрав их, смело озвучить – и сделать это без внутренней дрожи, страха и колебаний, паники и сомнений. А то, что уже произнесено, должно звучать мягко и успокаивающе – так, словно это волшебное таинство, магическое заклинание.
Как неудобно, стыдно, холодно на душе… Страшная психологическая пытка. Будь у меня выбор, я предпочел бы сейчас, как в дни моей юности, оказаться там, на проклятой Аргунской заставе, открывающей путь на Картаго – где-нибудь возле холмов, на земле, обильно политой нашей и врагов наших кровью… Помню, до сих пор помню: Южная магистраль, пули да взрывы, страдания и всюду одна смерть, только лишь смерть – и ничего боле… Как по мне, воевать гораздо проще и легче, нежели утешать маленького, преданного тебе человечка, одна слезинка которого, как известно, стоит высшей гармонии мира.
Звонко тикают покрытые пылью часы; маятник мерно отсчитывает уходящие в вечность минуты. В кабинете становится душно – свечи почти догорели; воск медленно стекает с серебряных канделябров, капая на разноцветный мозаичный пол. Скоро прорезать тьму останется лишь керосиновым лампам, одиноко висящим под потолком горестно ссутулившегося кабинета.
Йакиак мало-помалу успокаивается; рыдания его становятся тише, уступая место обиженным всхлипам и невнятному, беспокойному шепоту. Дункан ласково гладит помощника по щекам; к горлу подступил ком – чувство вины не проходит.
– Йакиак, все в порядке! Не плачь… Сейчас принесу воды – сразу станет полегче… Стакан… Где стакан?
Увидев осколки стекла, Дункан со всех ног бежит в соседнюю комнату – приемную, битком набитую сотрудниками Великого следствия. Боже правый… И как они здесь оказались? Не прошло ведь и получаса… Ничтоже сумняшеся, без зазрения совести они роются в его личных вещах и бумагах, вскрывают ящики письменного стола, фотографируют документы… Бесы, нечисть, подлая орда тараканов!
Откинув жалкие пожитки их, скарб, скамьи и баулы, Дункан кричит: «Прочь отсюда, пигмеи! Дом мой Домом Следствия наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» – и шпионы Курфюрста в ужасе разбегаются.
Раздобыв воду, он возвращается к Йакиаку.
– Вот, держи… Пей! Говорят, в воде сила… Пей, пей, не стесняйся, это тебе! Как ты, получше? Отошел? Готов продолжать?
Йакиак благодарно кивает.
– Ну вот и отлично!
Дункан медленно прохаживается по кабинету, пытаясь собрать воедино разбежавшиеся было мысли. Взгляд его ненароком падает на тонкую кисть Йакиака, поглаживающую испещренную шрамами шею.
– Дружище, прости… Всегда хотел и боялся спросить. Не сочти за грубость, за фамильярность, но… Откуда у тебя эти шрамы? – Неудобно! Надеюсь, снова его не обижу… – Нет-нет, не подумай – они тебе даже к лицу. Придают мужественности… Но все же? Если не хочешь – можешь не отвечать! Просто интересуюсь.
Йакиак радостно улыбается – похоже, внимание всемогущего Начальника следствия льстит его самолюбию. Какие уж тут обиды? Слезы на глазах Малыша, наконец, высыхают.
– Досточтимый господин Клаваретт, что вы… Я с удовольствием! Для меня честь ответить на ваши вопросы! Правда, рассказывать особенно нечего… Верите ли, почти ничего не могу вспомнить. Словно флер, пелена, завеса, непроницаемая дымка. Мистика – да и только! Шрамы – они у меня по всему телу. Везде: на руках, ногах – всюду, где есть кожа. Иногда кажется, что я собран, как головоломка, и склеен из отдельных кусочков… Представляете? И притом – совершенно не помню, как все это случилось. Возможно, был пьян, хотя алкоголь – не мое… Но другого объяснения просто не вижу.
Какие-то странные, смутные образы: холод, тьма, острые, что бритва, клыки; зубы, обагренные каплющей с них кровью. Вода. Фигура, склоненная надо мной, и вторая, копошащаяся по соседству… А еще – чувство раскаяния и страха. Вот, собственно, все… – Йакиак грустно вздыхает. – Удивительно: у меня феноменальная память – я помню все до мельчайших подробностей. Но тут… Словно провал. Самый жуткий день моей жизни – и он покрыт непроницаемым мраком. Хотя, наверное, так даже лучше. Главное – я не умер, а все остальное – неважно…
Тягостное молчание. В соседней комнате вновь слышен шорох – похоже, вернулись шпионы Курфюрста. Дункан кивает.
– Хорошо, Йакиак, не будем бередить твои раны! Поэтому – давай снова к делу. Скажи, как считаешь: Настоат похож на убийцу? Мой глазомер сбился – не могу его раскусить… А ты был с ним несколько суток: ходил по лабиринту, провожал к новому дому. Может, что-то заметил?
Йакиак тяжко вздыхает.
– Не знаю, ваше благородие… Проницательность – не мое сильное качество. Лично я против Настоата ничего не имею. Хотя, конечно, обман насчет вашего поручения – это… вопиющее правонарушение-с. Но и тут все не так однозначно: хитрость сия – очевидное проявление ума и несгибаемой воли. Как говорится, сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое… А значит, он – эталонный убийца. Но это в теории… Да, совершить преступление он, без сомнения, мог бы – но совершил ли? Вопрос! Первозданный, всепожирающий огонь жизни, воля к утверждению собственной власти – своего рода неугасимый élan vital[21], что течет в его жилах, – все это способно порождать и чудовищ, и ангелов… В общем, сажать его рано.
А вот кого точно следует вздернуть, так это собаку! Злобное, мерзкое существо, что довело меня до исступления… Ламассу – не животное; он – демон, в глазах коего я вижу бездну ненависти и кипящего гнева. Вполне возможно, именно он и причастен к убийству!
– Йакиак, полно тебе! Это пес – и не больше. Разве что говорящий. В остальном – никаких отклонений! Ладно, идем дальше – что у нас с девушкой? Есть информация о жертве убийства?
– Да, насчет девушки… Вот полный протокол осмотра и вскрытия. Возьмите, пожалуйста. Прочтите-с, здесь не так много.
Интересно! Может, есть какие подвижки? Сейчас разберемся… «Исходя из внешнего облика, жертва не была склонна к агрессивному, девиантному или антисоциальному поведению. Химико-бихевиористический анализ мертвого тела подтвердил, что наличие контркультурных установок также представляется достаточно маловероятным. За исключением привлекательной внешности, дополнительных факторов виктимности обнаружено не было».
Да уж, без толкователя не обойдешься! Какой остолоп составляет эти отчеты?! Гнать его подальше от Великого следствия – пускай на телевидении экспертом работает. Там таким доверяют; слушают, разинув рты, и благоговейно внимают, развесив ослиные уши.
– Йакиак, помоги! Расшифруй, пожалуйста, фразу: «Дополнительных факторов виктимности установлено не было». Что это значит?
– Господин Клаваретт, это… Как бы точнее выразиться… Речь идет о том, что никаких обстоятельств, повышающих вероятность убийства, в ходе экспертизы не обнаружено. Например, сильной степени опьянения, провокационного внешнего вида, клейма принадлежности к оппозиции, наличия большой суммы денег… Ну и так далее.
Йакиак светится изнутри; гордость переполняет маленького человечка – он, простой и бесхитростный служащий, знает нечто такое, о чем слыхом не слыхивал даже всемогущий Начальник следствия, мудрый и справедливый господин Клаваретт!
Дункан удовлетворенно кивает и вновь погружается в чтение.
Так, следующий документ. Детальное описание внешности и одежды убитой. Несущественно… Пока пропущу – будет еще время.
А вот это уже интересно – протокол вскрытия тела. «Смерть жертвы наступила в результате нескольких колото-резаных ран, нанесенных острым массивным предметом неизвестного генезиса и происхождения. Фатальными оказались две травмы: первая – со спины, снизу, под углом в 45o. Удар был неожиданным и привел к массивному повреждению внешних тканей и внутренних органов тела и в том числе правой почки, психеи, желудка и правого легкого.
Вторая смертельная рана была нанесена уже обездвиженной, но еще находившейся в сознании жертве, пребывавшей либо в лежачем, либо в полусогнутом положении. Результатом ее стала обширная черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью и повлекшая за собой критическую кровопотерю и угасание пневмы.
Остальные повреждения носили второстепенный характер и были вызваны, скорее всего, падением на брусчатку и последующим трупным окоченением в сочетании с долговременным воздействием холодной воды на неподвижно лежащее, бездыханное тело».
Да уж, нет слов… Отвратительно, чудовищно, мерзко! Зверское, бесчеловечное злодеяние – к тому же, еще и трусливое. Нападение со спины – что может быть более подлым? Сволочь, я тебя отыщу! Правосудие непременно свершится: «И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от Божьего суда».
Впрочем, Dei Judicium[22] – этого слишком мало. Ирод, кем бы ты ни был, – поверь… Поверь и послушай: сидеть тебе в застенках Великого следствия до тех пор, пока мучительная смерть не оборвет твое жалкое, никчемное существование! Таково мое слово – слово Начальника следствия!
– Все ясно, Йакиак! Прочитал. И что за изверг мог сие совершить? Не верится, что Настоат на такое способен. А уж тем более доктор… Хотя, конечно, чужая душа – потемки.
– Да, ваше светлейшество, вы, как всегда, правы! Произошло невиданное лиходейство… Однако есть еще один момент, который повергнет вас в шок. Все гораздо хуже, чем вы можете вообразить!
Глаза Дункана загораются лихорадочным блеском.
– Так-так, и что же? Заинтриговал!
– Подождите секунду, господин Клаваретт! Прежде чем перейти к следующей части – позвольте уладить еще один вопрос относительно жертвы. Сегодня у вас есть возможность осмотреть тело убитой, пока его не предали земле. Кто знает, вдруг это что-нибудь даст? «Вчера было рано, завтра будет поздно» – планируется погребение тела.
Начальник следствия морщится.
– Йакиак, это, наверное, ужасное зрелище! Скажи, а ты лично осматривал тело?
– Ваше благородие, никак нет… Этого и не требовалось – протокол составлен лучшим патологоанатомом и криминалистом Ландграфства – Ганнибалом Бокассой. У меня нет ни единого сомнения в его компетентности! И тем не менее – я настоятельно рекомендовал бы вам посетить морг: как член властной Триады, вы зрите дальше, острее и глубже всех нас… Быть может, мы что-нибудь упустили.
Дункан вздыхает. На мгновение прикрывает глаза. Нерешительность склизкой змеей вползает ему в сердце.
Надо, надо осмотреть тело! Чувствую, это необходимо… Но одна мысль о смердящем, гнилом трупе заставляет меня содрогаться… Что со мной стало? Было столько военных кампаний – я видел сотни оторванных рук, ног, голов; видел людей, пробитых ядрами и затоптанных лошадями; видел несчастных, молящих об избавлении, и счастливых, обретших, наконец, успокоение перед смертью. Горы, целые горы трупов, припорошенных первым снегом…
Тогда эти ужасы меня не пугали… Да, противно; да, мерзко – но душа моя была к такому готова. Война – что тут поделать? Принимал все как данность. А столь сильного отвращения, я бы даже сказал животного страха, как при мысли об осмотре тела убитой, я отродясь не припомню.
Но не идти в морг нельзя – могу упустить что-нибудь важное… В конце концов, это мои прямые служебные обязанности, упомянутые в Инструкции Начальника следствия. Впрочем, сей аргумент, признаемся честно, для меня мало что значит. Инструкции, приказы, постановления пишутся идиотами и для идиотов – они нужны лишь тем, кто не способен мыслить самостоятельно; кто не может или не хочет брать ответственность на себя и, подобно собаке на привязи, отказывается прислушиваться к голосу разума.
Как неспокойно внутри! Интуиция говорит, что надо решаться…
Стоп! Есть идея! Поручу осмотр толпе моих тупых и бездарных помощников. Пусть эти крысы займутся наконец делом, а не слежкой за мной и сочинением кляуз. Пойдут все, кроме Йакиака, – негоже ему тереться с этим отребьем. Да и зрелище полуразложившегося трупа – не из приятных; поберегу Малыша для более чистой работы… Решено, так и поступим! Отлично!
– Йакиак, не беспокойся – я все организую. Сам пойти не могу, слишком много бумаг накопилось… Однако ничто не ускользнет от внимания Великого следствия! И да упокоится красавица с миром – завтра приступайте к захоронению.
Дункан задумчиво смотрит в одну точку. Руки, протянутые к керосиновой лампе, не хотят согреваться; от сквозняков давно нет спасенья. Холодная, промозглая осень держит Город в цепких объятиях; от нее не укрыться – ни внутри, ни снаружи. Наверное, так будет всегда.
Вздохнув, Начальник следствия продолжает:
– Ладно, что у нас дальше? Кажется, ты хотел рассказать о чем-то исключительно важном.
Радостная улыбка озаряет маленькое лицо Йакиака.
– Да, да, конечно… Я помню! Совершенно секретная информация – ради нее мы, собственно, и собрались. Итак? Готовы? Поверьте, это чудовищно!
– Ну, не томи! Говори скорее, дружище!
– Видите ли, ваше светлейшество, я имею честь сообщить, что все наши подозрения блистательно подтвердились!
– Какие подозрения?
Йакиак, пригладив несколько непокорных седых волосинок, окаймляющих блестящую лысину, проворно спрыгивает с кресла и, глядя Дункану прямо в глаза, загадочно и многозначительно шепчет:
– Подозрения насчет второй жертвы: она и правда была! – Малыш торопливо обегает стол и наклоняется к самому уху Начальника следствия. – На месте преступления мы обнаружили много, до безумия много крови… И бо́льшая ее часть, как вы знаете, не принадлежит ни жертве, ни Настоату. Группа крови не та – 33.22 по классификации Солмса. К сожалению, очень распространенная группа – например, у меня самого точно такая. И у половины моих родственников… Так что здесь копать дальше бессмысленно. Однако есть другая зацепка: группа 33.22 абсолютно не характерна для женщин! Получается, что второй убитый – мужчина; в этом практически не остается сомнений.
– Практически? Или не остается? Выражайся яснее!
– Кхм… Ваше превосходительство… Не остается! Криминалисты совершенно уверены, что второй жертвой был, несомненно, мужчина. Вероятность – 146 %!
А вообще, скажу честно, в этих медицинских классификациях сам черт ногу сломит… Я порой думаю: и зачем нам такое разнообразие групп крови? 616 подвидов! Неужто не хватило бы, например, четырех – ну и в придачу двух резус-факторов, а не восемнадцати, как сейчас? Эта странная, творческая идея природы – мне она непонятна. Многообразие, дивергенция, эволюция… К чему нам все это? Сколь проще жилось бы роду людскому, коль наше общество подобно было бы улью, или муравейнику, или, на худой конец, бактериальной колонии. Все одинаковы, единообразны и равны меж собой – а значит, устремлены к общей цели. Индивидуальность – синоним упадка, декаданса, порождение деструктивных тенденций.
Представьте, как воссияло бы наше Ландграфство, если бы каждый из нас – жителей, его населяющих, – в своей созидательной силе уподобился муравью, лишенному желаний и эгоистических устремлений! Говорят, древний философ Э́йдженто Смит некогда сетовал, что человечество – это вирус: плодясь и размножаясь, оно захватывает всё новые миры и пространства… Ах, какая несусветная чушь! Если бы оно было так! Но нет: человечество не есть вирус. Напротив, оно само поражено вирусом индивидуализма: оно разношерстно, разобщено, множественно, противоречиво – а потому слабо и ничтожно; и никогда – вы слышите, никогда! – не достигнет той степени совершенства, что простейший улей иль муравейник. Вирус как монолит и единство – вот священная цель и идеал социального строя, земля обетованная всего нашего рода. Вирус и есть наша мечта о сверхчеловеке…
– Хватит, Йакиак! Довольно! Давай обсудим это в свободное время – а сейчас вернемся к расследованию. Согласен?
Малыш смиренно кивает.
– Вот и прекрасно! Скажи, есть ли информация относительно обстоятельств смерти второй жертвы?
Йакиак улыбается.
– Ваше светлейшество, информация есть – и еще какая! Обстоятельства сии настолько ужасны, что попросту превосходят пределы человеческого разумения. Дело в том, что крови на месте преступления целое море – тогда как само тело куда-то исчезло. И где искать его – непонятно. Ни единой улики, ни даже догадки… И это тем более странно, что тело первой жертвы – девушки – было найдено именно там, где и произошло нападение. Получается, modus operandi[23] двух преступлений совершенно различен. Как такое возможно?
Поначалу я полагал, что вторая жертва могла пережить покушение – однако последние данные о критических объемах кровопотери напрочь исключают такую возможность. Но и это не самое страшное. Видите ли, проблема в характере повреждений… Девушка умерла от глубоких колото-резаных ран – это вы уже прочитали. У Настоата – тяжелая черепно-мозговая травма. А вот у мужчины – второй жертвы убийства – все совсем плохо: мы нашли разрозненные фрагменты кожи, мышц и даже – представьте себе! – костной ткани. Обилие как венозной, так и артериальной крови; следы зверской борьбы и – самое отвратительное – отпечатки ногтей на асфальте. Это… просто немыслимо. Такое ощущение, что его растерзали живьем или порвали на части – оттого и нет тела. То есть, вы понимаете, его физически нет оно разорвано на кусочки! Конечно, негоже так говорить, но на фоне этого ужаса смерть девушки и тем более мытарства Настоата выглядят возлежанием на розах, благодатной негой в кущах Итемского сада…
Господин Клаваретт, прошу вас – сделаем перерыв! Вы знаете, меня не назовешь впечатлительным, но здесь… проняло до самого сердца. Какие чудовища, звери обитают у нас в Городе, прячась под личинами добродетельных граждан!
– Конечно, дружище! Само собой разумеется… Передохнем, сколько тебе будет угодно.
В глазах Йакиака вновь блестят слезы.
Невыносимо… Я всегда стремился к добру, свету, чистоте своих помыслов… Да, я мал, ничтожен и неказист – но разве букашка не достойна своей толики счастья? Разве не может она тянуться ввысь, к солнцу, рассчитывать на благодать от Всевышнего, Курфюрста или Деменцио Урсуса?
Служба Городу всегда приносила мне радость и отдохновение, но эти убийства – немыслимые злодеяния – дотла выжигают мне душу… Я будто вживую вижу чудовищные образы той ночи: слышу хруст костей, сопровождаемый стоном разрываемого тела; вижу ошметки кожи, глаза, сухожилия, кровоточащие куски мяса, разбросанные по всей улице… Проклятая эмпатия: порой мне кажется, что я чувствую боль – нестерпимую, вселенскую боль убиваемой жертвы; ее страх, обиду и ярость… Ощущаю последние всполохи затухающей жизни. Искра сознания, агония, предсмертная мысль – и все, конец фильма: они растворяются в вечности…
Настоат… Он был там – не знаю, в роли убийцы иль жертвы, но он точно присутствовал при святотатстве. И как он живет со всем этим? Или беспамятство пока спасает его от безумия? Если так, то амнезия – это подарок судьбы; благословение, ангел-хранитель, ниспосланный свыше.
А что если Настоат и есть тот самый убийца? Тогда душа его пуста и безвидна; он – монстр, животное, сеятель смерти. Но нет… Я не верю! Столь рафинированного зла не существует в природе! Да, все мы грешны – но не настолько! Ибо Божественное Провидение всеведуще и вездесуще, оно не допустит попрания света, оно щедро осыпает нас…
– Щедро, Йакиак! Очень и очень щедро! – Голос Дункана резко выдергивает Малыша из его мыслей. – Я награжу тебя за работу, переживания, за твой истовый, самоотверженный и ревностный труд. Можешь не сомневаться! Вот – смотри, что́ у меня есть!
Начальник следствия парой ловких движений разгребает кипу бумаг, в беспорядке разбросанных по секретеру. Под ними обнаруживается маленькая шкатулка из грубо отесанного камня – таких Йакиак за время работы в Великом следствии видел немало. Ну а в ней… В ней… Конечно, то самое!
О да, мой дорогой Йакиак, это именно то, о чем ты подумал – здесь, будучи надежно сокрыта от чужих глаз, покоится главная и, должно быть, единственная причина могущества и несокрушимости Следственной власти. Эта шкатулка – не более чем вершина айсберга, однако она олицетворяет собой полную и абсолютную независимость Следствия от воли Ландграфской администрации.
Так что в ней? Глупый вопрос! Конечно же, золото! А еще – бриллианты, изумруды, рубины и самые красивые из всех – черные, как уголь, сапфиры.
Капитал… Именно на нем и зиждется наша власть, подобно «надстройке над базисом»! Согласен, метафора пошлая; к тому же еще и социолетская, но доля истины в ней, безусловно, присутствует… Кто такие социолеты? Позвольте, ну как же так можно? Элементарные вещи! Сейчас объясню.
Социолеты – последователи древних богов, давно обратившихся в идолов, – равноапостольных Мóрэкса и Ингельсара. По правде говоря, они обычная секта, объединенная инфантильно-примитивным взглядом на жизнь и жгучей ненавистью к Золотому тельцу, коего они столетиями пытаются изгнать аки демона.
Дураки! На самом деле все просто: капитал – это функция, инструмент, который может быть обращен как во зло, так и во благо. Все зависит лишь от того, в чьих руках он находится – и, слава Богу, сейчас он принадлежит Великому следствию.
Я, конечно, не каторжник и не аскет – и уж тем более не «раб на галерах», что десятилетиями не спешит сойти со своего судна (во всех смыслах этого слова!). Да, в деньгах я нуждаюсь… Но и польза от меня есть – как и от работы всей Следственной гвардии. Мы – не чета Курфюрсту и Деменцио Урсусу, которые, подобно трутням, высасывают последние соки из полуживого, смиренно-безмолвного Города.
Вы спросите: а в чем же отличие? Зачем вам капитал? И я отвечу: да для того, чтобы не подчиняться преступным поползновениям исполнительной власти; чтобы плевать на нее и на всю ландграфскую шушеру – на их тупые законы, штампуемые бешеным принтером, на мракобесие, обскурантизм и откровенное сумасбродство, на «патриотические» акции и двухминутки ненависти, которые теперь должны проводиться на каждом собрании. В жопу все это! Мы – Великое следствие – являем собой последний оплот разума в мрачном, гнилом, утопающем в дикости мире.
Хорошо, а как же мздоимство, поборы, взятки борзыми щенками? Не спорю, все это есть. А как же иначе? Взгляните: я – тот самый паук, что сидит в центре огромной, раскинувшейся над Городом паутины. И готов признать это хоть под присягой. Почему? Да потому что не считаю зазорным! Ибо в темном царстве ландграфского произвола лишь коррупция и свободный, независимый капитал способны спасти граждан от глупости и злонравия власть предержащих.
Сколько сотен и тысяч еретиков мы укрыли от всевидящего ока Курфюрста, от костлявых рук подчиненной ему Церкви? Сколько вольнодумцев спасли от смертоносных тисков и шестеренок государственной власти? Естественно, мы делаем это не бесплатно – в конце концов, мы не святые… Но разве желание кушать умаляет наш подвиг?
Нет, социолеты, черт их дери, – это стадо баранов: ненавидя Курфюрста и отдавая свои жизни ради свержения его тирании, они, сами того не подозревая, лишь укрепляют ее, ибо параллельно – и еще более яростно – эти фантазеры борются с нами, с Великим следствием – живым воплощением Капитала. Их укусы нас, по правде говоря, только смешат – до того они слабы и ничтожны. Мне стоит сказать лишь одно слово – и начнутся аресты, и вся эта забавная секта жалких, беспомощных идеалистов будет стерта с лица земли банальным росчерком моего державного, остро заточенного пера.
Но это неверный и, более того, подлый, низменный путь… Борьба с социолетами – все равно что избиение несчастных младенцев. Я жду, пока из детей они превратятся во взрослых; пока, наконец, поумнеют и неизбежно поймут, что свобода – это прекрасное дитя собственности и Капитала. Деньги – вот единственная сила, которая способна свернуть шею затхлой, гнилой, отжившей свое деспотии.
«Коррупция… – осуждающе шепчут мечтатели на социолетских собраниях. – Какое ужасное, бесчеловечное зло…» И, вы знаете, я согласен – но с одной оговоркой, которая напрочь разрушает все эти никчемные философские построения. Абсолютным злом она становится тогда и только тогда, когда сами законы божественно идеальны, а нарушение их являет собой попрание истины и священных доводов разума.
Но оглянитесь вокруг… Разве в таком мире мы живем? Нет! Законы наши даны не Богом и не народом, а дряхлым, умалишенным Курфюрстом и его многочисленными прихлебателями. Под громким именем «права» у нас скрывается произвол, под термином «законотворчество» – бумагомарание и притеснение жителей.
И в этом реальном, страшном, прозаическом мире коррупция, Капитал, Великое следствие – это единственная альтернатива «духоскрепному» беспределу. Обогащаясь сами, мы попутно даруем гражданам столь искомую ими свободу; мы даем им силу и возможность противостоять идиотизму государственной власти. Подрывая ее изнутри, мы раскалываем монолит ржавой ландграфской машины и сводим на нет пагубное воздействие преступных законов.
Воспримите как аксиому: Великое следствие – это государство в государстве, и таковым оно и останется – по крайней мере, до тех пор, пока не падет тирания и над Городом не воссияет заря народной свободы. Создайте идеальное общество – и мы исчезнем, рассеемся, растворимся, как утренний туман над рекою. Но до тех пор, пока ландграфская власть будет средоточием злодейств и порока, искренне благословите нас, ибо мы спасаем ваши драгоценные жизни!
Свечи уже догорели, скоро погаснут и лампы – темнота накроет усталый, сгорбленный замок. Следствие погружается в сон; занимается раннее утро.
Йакиак робко берет из шкатулки пару алмазов.
– Мало, дружище! Не стесняйся, бери больше! Ты заслужил. – Дункан протягивает смущенному Йакиаку целую горсть сапфиров и бриллиантов, призывно переливающихся в лучах тусклого, дрожащего света. – Я верю: мы на верном пути. Преступник будет разоблачен и наказан – этого требуют закон и справедливость.
А теперь – ступай! И не забудь свои вещи, не то кто-нибудь их непременно присвоит. Шинель, меч, бриллианты – прячь скорее: воров в Следствии предостаточно. Больше, чем на улицах Города… К тому же у нас воруют по-крупному! – Дункан саркастически усмехается. – Хотя… Дружище, постой! Один, последний вопрос: нет ли новостей среди служащих? Может быть, слухов, сплетен, каких пересудов? Нужно быть в курсе того, чем живут подчиненные…
Йакиак, остановившись на полпути к двери и замерев в почтительном поклоне, обескураженно опускает глаза к полу.
– Ваше Благородие, к сожалению, сейчас не припомню… Простите-с. Я ведь ни с кем не общаюсь – все меня чураются и избегают. Знаю только, что пару десятилетий назад в Следствии появилась новая, умопомрачительно красивая девушка. Недавно поступила на службу. Зовут, вроде, Иненна… Или Инанна… А может, Ишанна, Иштари. Говорят, работает «на полях» – на голой земле, так сказать: криминалистика, следственные эксперименты, составление протоколов. Внешне просто неотразима! В общем, рекомендую познакомиться. А больше, господин Дункан, у меня никаких сведений нет… Все остальное неизменно много столетий.
Начальник следствия понимающе улыбается.
– Дорогой друг, спасибо! Благодаря тебе я сохраняю связь с окружающим миром, хотя он меня, признаться, все меньше волнует. Сижу тут, как в заточении… – Глубоко вздохнув, он поднимается с кресла. – Что ж, на том и закончим. Иди, Йакиак! Иди и неси мое слово – слово о несравненных успехах Великого следствия – по городам и весям бескрайнего мира. Пусть все услышат, что преступление будет раскрыто. Обязательно, всенепременно! Никто не должен знать, что дела наши плохи.
Дункан обнимает Йакиака за плечи, жмет его маленькую, тонкую руку и, подойдя к двери, задумчиво смотрит, как Малыш растворяется в сумраке тускло освещенных залов Великого следствия.
Одиночество подступает со всех сторон; шепот огня в пыльных керосиновых лампах не нарушает тишины и покоя. Под столом припрятана бутылочка виски – сейчас она как нельзя кстати. Пальцы, похоже, согрелись – теперь пора согреть озябшую душу.
Семисоттридцатитрехлетняя выдержка… Сомелье наверняка оценили бы вкус, купаж и аромат этого пойла… Идиоты! Разве есть разница, чем именно напиваться? Главное – опьянение, результат, эйфория. Помутнение ищущего отдохновение разума.
Гурманы, ценители, дегустаторы – как бы все они сейчас взбеленились, увидев, что я смешиваю этот виски с дешевым, приторно сладким ликером… Конечно, ведь они так ценят изящество, аристократизм, утонченность… Принадлежность к высшим слоям общества – вот главное в жизни неудачника и скомороха! А хотите знать мое мнение? Время аристократии прошло – а значит, пора раз и навсегда выбросить ее на свалку истории. Пусть гниет там, разлагаясь под клювами грифов.
Вкус у виски, конечно, отвратный… Впрочем, эффект есть – я чувствую себя лучше: тепло растекается по телу, мысли перестают путаться в голове.
А теперь – самое время подумать. Итак, что мы имеем? У каждого преступления должен быть мотив – это бесспорно и несомненно, как ничто в нашем мире. Кроме того, необходимо наличие связи между убийцей и жертвой – связи прочной, недвусмысленной и очевидной, если, конечно, речь идет не о серийном маньяке. Однако откуда ж в нашем Городе взяться маньяку? Здесь их по определению быть не может; они обитают ниже, куда ниже, где-то под нами – в каких-нибудь подземельях, куда доступа у нас, к счастью, нет никакого. Да и сексуального подтекста в преступлении я не усматриваю…
Мотива нет ни у одного из подозреваемых – ни у больного, ни у его доктора. Но еще хуже отсутствие видимой связи между подозреваемыми и жертвой. Вроде есть некий намек на сговор Настоата с Энлиллем, но, судя по всему, он произошел уже после совершения преступления. Спасибо доблестному Йакиаку – свел двух подозреваемых вместе… Хотя я и сам идиот – позволил доктору навестить пациента до официального допроса и снятия показаний. Но кто ж знал, что Энлилль может иметь отношение к делу? Короче, мы все облажались… Вот так и работает Великое следствие!
А теперь главный вопрос: что делать дальше? Закрывать Настоата? Не уверен, что он и есть наш убийца… Сомневаюсь… С другой стороны, он ловко провел Йакиака – значит, манипулировать может. Тогда что мешает предположить, что и я сам стал жертвой манипуляции? Настоат хитер, очень хитер – плохо, что я понял это так поздно… Но опять же: манипулятор – не значит убийца! Сколько подводных камней, рифов и акул в этом деле. Еще и собака… А поначалу ведь думал, что все будет так просто! Как сильно я ошибался…
Странные мысли лезут мне в голову. Я – человек, и, словно в пещере, заперт в клетке собственной субъективности, вырваться из которой мне не под силу. Взглянуть бы на себя сверху, с точки зрения вечности; абстрагироваться от идей, навязанных окружением, от всего внешнего, наносного – и, я уверен, дело было б раскрыто! Но я замурован внутри маленького, душного мирка, опутан навязанными мне представлениями, которые по ошибке полагаю своими. Это наш крест; все мы такие – неполные, неполноценные, слишком зависимые от обстоятельств. Слишком подверженные влиянию прочих. Это и есть первородный грех человека…
Кажется, я заблудился, заплутал в мыслях – надо подлить еще виски! Вот, теперь лучше. Идем дальше! Теоретически из трех жертв – двух мертвых и одного полуживого – каждый может оказаться убийцей. Возможно, Настоат обезвредил преступника; более вероятно, что он и был тем самым преступником. А может, замешан кто-то четвертый – например, доктор… или собака, как говорит Йакиак. Но это уж совсем ни в какие ворота!
И вообще – в этом деле нет ничего: ни мотива, ни орудия, ни даже тела еще одной жертвы. Куда оно подевалось? Неужто и правда разорвано на кусочки? Да и Настоат еще путается в показаниях – одни нестыковки! Что это: амнезия, волнение, незнание всех обстоятельств? Или, напротив, гениальный способ обмана – мол, посмотрите-ка, господин Дункан, подумайте сами: разве могу я столь бездарно и безрассудно путаться в фактах? Ведь я слишком умен, чтобы допустить такую оплошность. А значит – я невиновен!
Да, может, и так – но, пожалуй, я слишком все усложняю. Наверное, начинаю пьянеть – в голову лезут всякие мысли…
Тьфу, ну и виски! Вкус, как у помоев… Осталось еще два-три бокала – непременно надо допить (точно, на подсознательном уровне знаю: надо)! Лучше бы я вином напивался… В подвалах дворца хранится пара бутылок, да и кладовщица там – просто конфетка… Обязательно наведаюсь завтра!
Но все это после, а сейчас – дело! Есть у меня мысль – насчет орудия преступления. Если задуматься, всем трем жертвам были нанесены совершенно разные повреждения. Настоат получил черепно-мозговую травму от удара тяжелым предметом. Почти не сомневаюсь, что это был камень – какой-нибудь булыжник или кусок облицовки. Орудие пролетариата… Хотя сейчас уже ничего не докажешь – потоки воды наверняка смыли все следы крови.
Что касается девушки… Эээх, последний стаканчик! Трудно идет… Да, относительно девушки… У нее две колото-резаных раны; нанесены, наверное, тесаком. Или крупным ножом. Точно не шпагой! Может быть, мечом или алебардой… Короче, тут более или менее ясно.
А вот третий мужик – с ним беда… Если прав Йакиак, и его действительно растерзали, то уж точно не ножом и не камнем. И что же тогда получается? Три разных орудия преступления. О чем это говорит? Ну, ну, думай – ответ совсем рядом! Он очевиден… Точно! Точно… Это значит – как минимум двое убийц. Банда? Не похоже… Но как же тогда? А черт его знает!
Ладно, пока не уснул, надо записать эту идею… Какую? Господи, какую идею?.. Что за напасть – похоже, забыл. Вылетело из головы… А, нет! Вспомнил: идею о нескольких возможных убийцах. Тааак, вот и готово! Как протрезвею, попробую развить эту догадку.
Последний глоточек… Тяжко. Хочется спать… Надо бы поставить сюда походную кровать или раскладушку, а то после кресла по утрам обычно ломит всю спину.
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
Вспомнилось… Красиво!
Лампы погасли. Как у нас тихо… Свежо… Кажется, дует ветер. Я помню, это уже было когда-то – все мы в Городе живем только прошлым…
Я чувствую, как пахнет деревом и цветущей сиренью. Да, я еще сплю; я в мягкой, уютной кровати… На мне пижама, любимый брелок и бабушкины шерстяные носки… Вот я и дома. В соседней комнате мама готовит яичницу – Боже, какой аромат! Скоро уже завтрак, осталось потерпеть самую малость… Как хорошо, что сегодня нет школы!
Мама, любимая, дорогая! Какой красивый у тебя по выходным голос. Ну вот, я снова плачу…
Отражаясь в каплях росы, восходит яркое солнце.
20
Карфаген должен быть разрушен (лат.).
21
Жизненный порыв (фр.).
22
Суд Божий (лат.).
23
Образ действия (лат.).