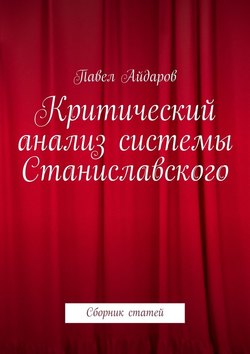Читать книгу Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей - Павел Айдаров - Страница 5
О понятии «эмоциональная память» в системе Станиславского
Ⅱ
ОглавлениеДля обозначения памяти чувств Станиславский изначально пользовался термином «аффективная память», взятым им из работы Рибо. Однако в ходе многолетней разработки своей «системы» он, мотивируя тем, что термин «аффективная память» был «отвергнут и не заменен новым» (13, с. 273), меняет его на термин «эмоциональная память». При этом совершенно непонятно, что значит, «термин отвергнут и не заменён новым», будто в науке существует какой-то надзорный орган, который может отменять или разрешать использование тех или иных терминов. Дискуссия о памяти чувств, порождённая работой Рибо, длилась в психологии вплоть до 30-х годов ⅩⅩ века, и в ней использовался именно термин «аффективная память».
Относительно применения в системе Станиславского памяти чувств господствует следующее представление: Рибо доказал существование аффективной памяти, а Станиславский применил это к актёрской практике. Поскольку книги Рибо читают только узкие специалисты, а работы Станиславского и понятия его «системы» настолько популярны, что даже вышли за актёрскую среду, то, когда речь заходит об эмоциональной памяти, в первую очередь вспоминают именно Станиславского. То, что он говорил об эмоциональной памяти, воспринимают безоговорочно, также безоговорочно верят, что он в этом вопросе опирался на научную психологию – на работы Рибо.
Но Рибо, как уже было сказано, отнюдь не говорит о том, что аффективная память свойственна всем людям, он указывает лишь на существование типа людей, ей обладающих. Станиславский же, в угоду своей системе, распространяет наличие аффективной памяти на всех, лишь замечая, что у одних она может быть сильнее, а у других слабее.
Однако Станиславский не просто расходится с выводами Рибо, он даже подменяет приводимые им примеры. Вот как он иллюстрирует понятие эмоциональной памяти примером, приведённым, как он говорит, в работе Рибо: «Два путешественника были застигнуты на скале приливом в море. Они спаслись и после передавали свои впечатления. У одного на памяти каждое его действие: как, куда, почему он пошел, где спустился, как ступил, куда прыгнул. Другой не помнит почти ничего из этой области, а помнит лишь испытанные тогда чувствования: сначала восторга, потом настороженности, тревоги, надежды, сомнения и, наконец, – состояние паники» (13, с. 274). Второе, согласно Станиславскому, и есть эмоциональная память. На самом деле данный пример выглядит у Рибо совсем по-другому: «С., который чуть не был застигнут приливом на морском берегу, представляет себе наступающие волны, вспоминает, как он стремительно бежал к скале, где оказался в безопасности, но эмоция, как таковая, в нём не воскресает» (9, с. 165). Ни о каком втором путешественнике, который «помнит лишь испытанные тогда чувствования» у Рибо речи не идёт. Данный пример, стоит заметить, Рибо приводит как иллюстрацию памяти интеллектуальной, т. е. памяти, в которой сохраняются лишь «условия, обстоятельства и аксессуары эмоций» (там же).
В примере, приведённом Станиславским, путешественники противопоставляются друг другу по следующему принципу: первый помнит только свои действия, второй – только свои чувствования. Однако ни то, ни другое не иллюстрирует то, как определял аффективную память Рибо. При действии интеллектуальной памяти человек помнит прежде всего обстоятельства произошедшего, а затем – действия и чувства, которые этим были вызваны; об этих чувствах он может рассказать, однако воскресить, т. е. воспроизвести их заново он не может. При действии же аффективной памяти в человеке вспыхивают именно чувства, которые он испытывал в момент происшествия, однако средством вызова этих чувств служит стадия интеллектуальная, т. е. воспоминание обстоятельств происшедшего.
Но на этом искажение понятия аффективной памяти у Станиславского вовсе не заканчивается. О чувствах эмоциональной памяти он говорит: «чувства, которые актёр испытывает в качестве действующего лица пьесы, являются повторными, т. е. воспроизведёнными его аффективной памятью, которая сама по себе до некоторой степени „очищает чувство от лишних подробностей, оставляя лишь самое главное“» (цит. по 3, с. 58, 59). О том, что проходя через эмоциональную память, чувства очищаются «от всего лишнего» Станиславский говорит в своих работах неоднократно, однако он предпочитает вовсе не упоминать то, на что обращает внимание Л. Я. Гуревич: «эти воспроизведённые памятью чувства по существу не отличаются от реальных чувств: производя исследования над ними, Рибо установил их качественное тождество с последними, их органичность, т. е. легко уловимую связь с явлениями физиологической жизни, а отличительной особенностью их признал лишь относительно меньшую их силу» (3, с. 51). Если говорить точнее, то Рибо вовсе не «установил качественное тождество» воспроизведённых чувств с первоначальными, но он не говорит и об их качественном отличии1. Станиславский же словами про «очищение от всего лишнего», по сути, такое качественное отличие утверждает. «Очищенным» чувствам эмоциональной памяти он приписывает обобщённый характер. Это, собственно говоря, подразумевает следующее: человек может испытывать какое-либо чувство в жизни не один раз, а достаточно много, в результате чего от этого множества однородных переживаний остаётся только существенное, образующее собой некоторый обобщённый тип данного чувства. Станиславский пишет: «Из многих таких оставшихся следов пережитого образуется одно – большое, сгущенное, расширенное и углубленное воспоминание об однородных чувствованиях. В этом воспоминании нет ничего лишнего, а лишь самое существенное. Это – синтез всех однородных чувствований. Он имеет отношение не к маленькому, отдельному частному случаю, а ко всем одинаковым. Это – воспоминание, взятое в большом масштабе. Оно чище, гуще, компактнее, содержательнее и острее, чем даже сама действительность» (13, с. 285).
Об обобщённых чувствах говорит и Рибо, но называет это «ложной, или абстрактной» эмоциональной памятью, представляющей собой «интеллектуализированное состояние». При абстрактной эмоциональной памяти «аффективный отпечаток в воспоминании только познаётся, но не чувствуется, не ощущается» (9, с. 174). В этом случае отсутствует какое-либо телесное проявление вспоминаемого аффекта, Рибо пишет: «эмоция, не отражающаяся на всём организме, есть не более как интеллектуальное состояние» (9, с. 177). Аналогичное разделение эмоций и интеллектуальных состояний мы встречаем у американского психолога У. Джеймса. Согласно Джеймсу, эмоция есть осознание телесного возбуждения, и если таковое отсутствует, то мы имеем дело с чисто интеллектуальным восприятием явлений. В противоположность «ложной» настоящая аффективная память должна воспроизводить прошедшее аффективное состояние во всей его конкретности, во всей её полноте, и иметь телесное проявление. Таким образом, эмоция всегда конкретна, ситуативна.
Итак, Рибо утверждает ограниченность людей, обладающих аффективной памятью, а Станиславский приписывает ей всеобщий характер. Рибо относит обобщённые чувствования к интеллектуальным состояниям, к «ложной» аффективной памяти, а Станиславский пытается приписать этой ложной памяти истинный характер.
Заметим, что Станиславский в данном вопросе расходится не только с Рибо, он расходится и с самим собой. Ставя, с одной стороны, обобщённые чувства эмоциональной памяти во главу развиваемого им «искусства переживания», он одновременно критикует «чувства вообще». Любое «вообще» он яростно стремится изгнать со сцены: «в нашем деле самое опасное – это игра вообще. В результате она дает неопределенность душевных контуров и лишает артиста твердой почвы, на которой он может уверенно стоять» (12, с. 477). Передача «чувств вообще» – «мертва, формальна, ремесленна… Подлинное искусство и игра „вообще“ несовместимы. Одно уничтожает другое. Искусство любит порядок и гармонию, а „вообще“ – беспорядок и хаотичность» (13, с. 80, 81). Для Станиславского «вообще» означает «приблизительно», «формально», «беспричинно», «бессодержательно», «хаотично». Однако те обобщённые чувства, которые Станиславский призывает извлекать из своей эмоциональной памяти, как раз и оказываются «чувствами вообще» – чувствами, которые, согласно его же «системе», подлежат изгнанию.
В чём причина таких противоречий? Прежде всего в том, что противоречивость была Станиславскому свойственна. Так, М. Чехов пишет:
«Одна из трудных сторон работы со Станиславским была еще и та, что, создавая свою систему, он часто менял ее, забывая о том, что говорил вчера.
– Какой дурак сказал вам это? – спрашивал он иногда с негодованием о том, что сам же преподал нам еще накануне» (14, с. 125).
О чём такая противоречивость говорит? Прежде всего, о том, что Станиславский не погружался глубоко в исследование стоящих перед ним проблем и руководствовался непроработанным мнением, которое постоянно менялось в зависимости от ситуации.
1
П. Блонский как раз пишет, что Рибо не осознавал то, что воспроизведённое чувство сильно не отличается от первичного.