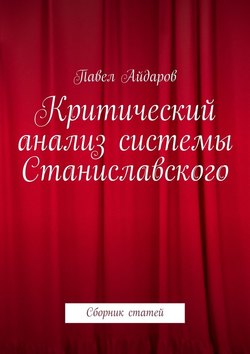Читать книгу Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей - Павел Айдаров - Страница 6
О понятии «эмоциональная память» в системе Станиславского
Ⅲ
ОглавлениеНаличие аффективной памяти утверждали лишь три автора, вошедшие в историю психологии: Рибо, Спенсер и Блонский. С основными выводами Рибо мы утверждения Станиславского уже сравнивали, теперь сравним их с выводами Спенсера и Блонского, а также затронем работы и других авторов.
Один из самых важных вопросов относительно аффективной памяти – это вопрос механизма воспроизведения забытых чувств. У Станиславского данный механизм выглядит совсем просто: забытое чувство находится в некоем хранилище, где его и нужно отыскать: «Знаете ли вы, что такое эмоциональная память? Представьте себе много домов, в домах большое количество комнат, в них бесчисленное количество шкафов, ящиков с множеством коробок, коробочек… То же и в архиве нашей памяти. И в ней есть свои шкафы, ящики, коробки и коробочки» (13, с. 286). Судя по работе Блонского, подобное представление об эмоциональной памяти встречалось часто в психологической литературе того времени (Блонский против такого представления возражает), и Станиславский, скорее всего, оттуда его и позаимствовал.
Сам же Блонский механизм воспроизведения чувств представляет следующим образом: «Возбуждённое чувство (или) эмоция длится некоторое время, иногда очень продолжительное (в ослабленной хронической форме), но чаще всего сравнительно непродолжительное, постепенно слабея, пока вовсе не утихнет. В последнем случае его уже нет, и ни в каком вместилище – настоящем или метафорическом, материальном или духовном – оно не находится. Но соответствующая нервная организация, результатом деятельности которой было данное чувство (или) эмоция, подвергшись очень сильному возбуждению, может стать после этого более возбудимой, т. е. способной возбуждаться более слабыми стимулами подобного рода» (1, с. 53). Мысли Г. Спенсера в этом смысле схожи: он хоть и не задаётся напрямую данным вопросом, однако в ходе рассуждений постоянно говорит о необходимости повторения нервной организации для оживления чувствований2. Касается данного вопроса и Д. Н. Овсянико-Куликовский. Разбирая вопросы психологии творчества, он отрицает возможность хранения чувств в бессознательном, и приходит к следующему выводу: «Испытанное чувство исчезает, но наша психика обогащается новым опытом и становится на будущее время более восприимчивой к данному чувству» (7, с. 269). По сути, у всех трёх авторов идёт речь об одном и то же – не существует никакого хранилища чувств, а есть лишь более сильная восприимчивость к тем чувствам, которые уже ранее были испытаны. В добавление к этому можно ещё привести воззрения У. Джеймса, который также отмечает роль нервной организации к восприимчивости эмоций: «нервный механизм сделался столь восприимчивым к известным эмоциям, что почти всякий стимул… служит достаточной причиной, чтобы вызвать определённое нервное возбуждение и тем породить своеобразные комплекс чувствований, данную эмоцию» (5, с. 239). Если несколько авторов столь высокого уровня приходят к одному и тому же выводу, то имеются достаточно серьёзные основания говорить о его объективности.
На основании вышеизложенного уже можно сказать, что воспроизведение чувств эмоциональной памяти носит очень ограниченный характер. Однако эта ограниченность отнюдь не определяется только тем, что одни люди обладают данной способностью, а другие – нет. Ещё дело в том, что если актёр не испытал сам какого-то чувства в жизни, то он и не сможет воспроизвести его на сцене, ибо «вспоминать» попросту будет нечего. В результате воспроизводимые чувства становятся ограниченными личным опытом. Допустим, актёру нужно изобразить состояние сердечного приступа. Как он может вспомнить это состояние, если у него сердечного приступа никогда не было?! Станиславский сам суть этой проблемы не до конца понимает. Он считает, что все возможные чувства хорошо известны, что и когда чувствует человек – яснее ясного, и проблема только в том, чтобы это изобразить, а то, что не было пережито, можно изобразить, комбинируя уже пережитое. Станиславский пишет: «Существует довольно распространённое и уже высказанное в печати мнение, будто практикуемый мною метод художественного воспитания актёра, обращаясь через посредство его воображения к запасам его аффективной памяти, то есть его личного эмоционального опыта, тем самым приводит к ограничению его творчества пределами этого личного опыта и не позволяет ему играть ролей, не сходных с ним по психическому складу. Мнение это основано на чистейшем недоразумении… Музыкальная гамма имеет только семь основных тонов, солнечный спектр – семь основных цветов, но комбинации звуков в музыке и красок в живописи бесчисленны. То же нужно сказать и об основных чувствах, которые хранятся в нашей аффективной памяти <…>: число этих основных чувств во внутреннем опыте каждого из нас ограничено, но оттенки и комбинации столь же многочисленны, как комбинации, создаваемые из элементов внешнего опыта деятельностью воображения» (11, с. 62). Для подтверждения своих мыслей Станиславский апеллирует к научной психологии: «фантазия, как указывают и наблюдения научной психологии, будоражит нашу аффективную память и, выманивая из скрытых за пределами сознания складов её элементы когда-то испытанных чувств, по-новому организует их в соответствии с возникающими в нас образами» (там же, с. 61). Таким образом, в устах Станиславского всё выглядит так, будто бы научная психология давно доказала возможность построения эмоций из элементов эмоциональной памяти, а тот, кто указывает на ограниченность памяти чувств личным опытом, просто с психологией не знаком.
Существуют ли элементы, из которых складываются чувства? В истории психологии утверждение наличия некоторых первоэлементов чувств мы находим, пожалуй, лишь у одного автора – У. Джеймс считал таковыми телесные симптомы, комбинация из которых, благодаря внешнему воздействию, может образовать ту или другую эмоцию. Например, чувство гнева есть комбинация из таких телесных симптомов как биение сердца, короткое дыхание, дрожь губ, прилив крови к лицу, «гусиная» кожа, расслабление членов, возбуждение во внутренностях и т. д. Однако если человек ранее не испытал соответствующего внешнего воздействия, то в его нервной организации сама собой комбинация из этих элементов никак не зафиксируется. Тем самым никаких оснований для того, чтобы утверждать возможность формирования чувств из неких первоэлементов эмоциональной памяти, теория Джеймса вовсе не даёт.
Объём эмоциональной памяти Станиславский предлагает обогащать превращением сочувствия в чувство. Человек не только сам становится участником каких-то жизненных ситуаций, он также наблюдает других и может им сочувствовать – испытывать похожие чувства. Однако, поскольку сочувствие есть явление слабое и для сцены не подойдёт, его следует превращать в чувство. Иллюстрирует это «превращение» Станиславский следующим примером: «Допустим, что вы пришли к своему другу и застали его в ужасном состоянии… Что вы переживаете в эти минуты? Сочувствие. Но ваш друг ведёт вас в соседнюю комнату, и там вы видите его жену, распростёртую на полу в луже крови. <…> Оказалось, что муж зарезал свою жену из ревности… к вам… При этом известии внутри вас всё переместилось. Прежнее сочувствие свидетеля сразу переродилось в чувство самого действующего лица трагедии… Подобный процесс происходит и в нашем искусстве при работе над ролью» (13, с. 309). Но заметим, что герой этой ситуации для того, чтобы превратиться из свидетеля в действующее лицо трагедии, совершенно ничего не делал – он просто узнал об этом. Так что же должен предпринимать актёр, чтобы превратить сочувствие в чувство? При том, это чувство должно обладать такой силой, чтобы оставить след в памяти – лишь при таком условии оно может быть воспроизведено. Пример Станиславского этого никак не объясняет.
Теперь снова к психологии. Аффективная память человека ограничена не только личным опытом. На «запоминание» сильно влияет и состояние в тот момент, когда эти чувствования возникли, а также когда они вновь оживляются. Г. Спенсер большую роль здесь отводит возбуждению кровообращения: наиболее сильно запоминаются чувствования, в период которых кровообращение человека было возбуждено. Другими словами, у человека должно быть бодрое, а не вялое состояние. Для воспроизведения же чувства требуется то же самое: «При прочих равных условиях, данное прошедшее чувствование может быть воспроизведено, смотря по тому, хорошо или не хорошо снабжены они кровью в тот момент, когда является повод вспомнить про это чувствование» (10, с. 260). В этом смысле человек обладает более сильной способностью оживления чувств в молодом возрасте, однако с годами кровообращение ослабевает, а вместе с тем – и данная способность. Но что это говорит для актёрской практики? Собственно говоря, то, что с годами для актёра будет всё сложнее воспроизводить чувства из эмоциональной памяти.
Эмоция, следует заметить, по своей сути очень сходна с рефлексом. Много оснований полагать, что это и есть рефлекс. И. Сеченов определял эмоции как «рефлексы с обширной иррадиацией3 раздражения». В связи с этим следует заметить, что И. Павлов в качестве условия для формирования условного рефлекса называл то же самое, что и Спенсер для формирования и воспроизведения эмоции – бодрое состояние: «образование новых связей, процедура замыкания новых нервных путей есть функция бодрого состояния» (8, Лекция 2, с. 35). При сонливом состоянии формирование условного рефлекса возможно, но весьма затруднено.
Вместе с тем сами по себе чувства обладают разной способностью к воспроизведению. Спенсер отмечает, что сильный отпечаток на нервной организации оставляют лишь два типа чувств: которые были очень сильными, и которые повторялись неоднократно. Он пишет: «При прочих равных условиях, оживаемость чувствования изменяется пропорционально его силе, и, при прочих же равных условиях, его оживаемость изменяется пропорционально тому, сколько раз оно повторялось в нашей опытности» (10, с. 257).
Согласно же Блонскому, лучше всего запоминаются не просто сильные эмоциональные впечатления, а сильные впечатления негативного характера. Лучше других запоминаются лишь три чувства: страдание, страх и удивление. При этом «воспоминания» удивления не может быть в принципе, ибо «удивление есть своеобразная эмоциональная реакция именно на новое» (1, с. 51). Остаются, таким образом, лишь страх и страдание.
Посмотрим на то, какие примеры эмоциональной памяти приводит Станиславский. В соответствующей главе «Работы актёра над собой» описываются: ужас от увиденной катастрофы, обида от публичного оскорбления, страх после чуть не произошедшей трагедии, пережитый конфуз. В последней главе той же работы центральную роль занимает воспоминание о потере ребёнка. Таким образом, все приводимые Станиславским примеры – это примеры страха и страдания. При том бо́льшая часть примеров связана с получением человеком психологической травмы. Сюда же можно отнести и вышеприведённый пример «превращения» сочувствия в чувство: труп, море крови, ужас пережитого. Получается, по Станиславскому, актёр должен быть активным участником или наблюдателем различных трагических происшествий, постоянно переживать какие-то потрясения, оскорбления, обиды, попадать в разные конфузы и т. п. Только тогда он наберёт необходимый материал для эмоциональной памяти. Абсурдность этого понятна без объяснений.
2
См. Г. Спенсер «Основания психологи» Ч. 2, гл. 5 «Оживаемость чувствований».
3
«Иррадиирование» означает процесс противоположный концентрированию. В данном случае речь идёт о том, что раздражение не концентрируется в одном определённом месте, а разливается по организму.