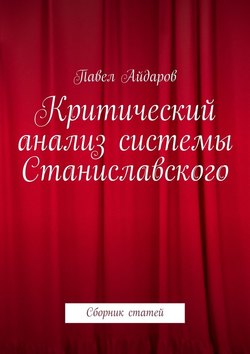Читать книгу Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей - Павел Айдаров - Страница 8
О понятии «эмоциональная память» в системе Станиславского
Ⅴ
ОглавлениеИспытанное сильное чувство оставляет в душе человека свой след, в результате чего он становится очень восприимчив к ситуациям, напоминающим о произошедшем. Исследуя такую повышенную восприимчивость, Блонский приходит к выводу, что вновь воспроизведённым чувствам присуща меньшая дифференцированность. Он пишет: «стимулы, когда-то вызвавшие определённое чувство (боль, испуг, огорчение, радость, горе, любовь и т. д.), могут вызвать впоследствии слабое и недифференцированное чувство того же качества, т. е. приятное или неприятное» (1, с. 52). Другими словами, если человек, например, испытал радость от чего-либо, то повторное воспоминание об этом вызывает не радость, а просто приятное чувство, если испытал горе – то чувство будет просто неприятным. Одновременно Блонский говорит и о меньшей дифференциации стимулов, вызывающих повторные чувства: «испугала определённая собака, но с тех пор субъект стал бояться вообще собак; причинял боль операционный нож, но не любят и столовых ножей… чувство как бы хуже стало различать стимулы, как бы смешивает данный стимул с похожим на него» (там же). В итоге, он резюмирует: «Чувство стало менее дифференцированным и стало хуже различать, менее специализированно, более неразборчиво реагировать. Но с генетической точки зрения это значит, что чувство стало более примитивным: это не прежнее чувство, но другое, того же рода, но находящееся на низшей стадии развития» (там же).
Как уже было сказано выше, Станиславский приписывал чувствам эмоциональной памяти характер обобщённости. Эти обобщённые чувства он называл художественными, в противоположность чувствам первичным. Процесс трансформации первичных чувств во вторичные – художественные – он иллюстрирует на примере воспоминаний о виденных последствиях катастрофы, где трамвай переехал человека. Изначально увиденное вызвало жуткое впечатление. Через день или два после этого «Брезгливое чувство исчезло, и вместо него явилось возмущение» (13, с. 282). Через неделю после катастрофы «вся картина, ещё недавно представлявшаяся отвратительной, потом жестокой, теперь стала величественной» (12, с. 283). Можно сказать, что произошедшее на второй день – это и есть та меньшая дифференцированность чувств, о которой говорит Блонский. При этом если Блонский называет такие чувства примитивными, то Станиславский – художественными. Что касается дальнейшей трансформации чувства, описанной Станиславским, то она весьма неправдоподобна. Трудно представить, чтобы вид обезображенного трупа с отрезанными руками и валяющейся рядом частью ноги (именно такое описание увиденного присутствует у Станиславского) через неделю побуждал «к поэзии, стихам и торжественной лирике» (13, с. 283).
Менее дифференцированные чувства являются более слабыми. Однако воспроизведённые слабые чувства Станиславский считает непригодными для сцены. Он пишет: «Слабая эмоциональная память вызывает едва ощутимые, призрачные чувствования. Они не пригодны для сцены, так как мало заразительны, мало заметны, мало доходят до зрительного зала» (13, с. 305). Вопрос о силе вновь воспроизведённых чувств – это очень важный вопрос с точки зрения применения эмоциональной памяти в актёрской работе. Рибо относительно силы повторных чувствований заключал, что зачастую «живость воспоминания бывает обратно пропорциональна интенсивности первоначального явления» (9, с. 186). Другими словами, если первоначальное впечатление было очень сильным, то воспоминание о нём будет слабее, а если первоначальное воздействие было слабым, то оно со временем может всё более и более разрастись – наличие первого или второго зависит от типа характера. Очень многие же авторы, занимавшиеся вопросом аффективной памяти, стояли на той точке зрения, что воспроизведённые чувства всегда более слабы по сравнению с первоначальными.
Станиславский отвергает применение слабой эмоциональной памяти не только потому, что слабые чувства плохо доходят до зрителя, но и потому, что для их воспроизведения на сцене «потребовалось бы проделывать предварительную большую внутреннюю работу» (13, с. 306). Относительно же сильной эмоциональной памяти он говорит: «Располагая таким острым, легко возбудимым эмоциональным материалом, актёру ничего не стоит пережить на подмостках сцену, аналогичную той, которая запечатлелась в нём после потрясения, испытанного в жизни» (там же, с. 305—306). Пример испытанного потрясения он приводит следующий: «Представьте, что вы получили публичное оскорбление или пощёчину, от которой всю жизнь потом горит ваша щека. Внутреннее потрясение от такой сцены настолько велико, что оно заслоняет собой все детали и внешние обстоятельства дикой расправы. От ничтожной причины и даже без всякого повода пережитая обида сразу вспыхивает в эмоциональной памяти и оживает с удвоенной силой» (там же, с. 306). Данный пример, следует отметить, это опять пример полученной психологической травмы.
Теперь посмотрим на пример, которым Станиславский аргументирует возможность того, что воспоминание чувств может быть сильнее первичного чувства. В уста главного героя «Работы актёра над собой» Торцова он вкладывает рассказ случая с его сестрой:
«Торопясь при подходе поезда выскочить из вагона, она спустилась на последнюю ступеньку схода. Ступенька оказалась заледенелой. Нога поскользнулась, и, к общему ужасу окружающих, сестра очутилась между движущимся мимо нее вагоном и столбами пола перрона. Бедная женщина отчаянно закричала, но не потому, что испугалась за себя, а потому, что выронила свою дорогую ношу – сумку с письмами, которые могли попасть под колеса. Поднялась суматоха, кричали, что женщина попала под вагон, а кондуктор, вместо того чтобы помогать, неприлично ругал сестру. Произошла глупая и отвратительная сцена. Возмущенная ею, бедная женщина целый день не могла прийти в себя и изливала домашним свою обиду на кондуктора, совершенно забыв о падении и о едва не происшедшей катастрофе.
Наступила ночь. В темноте сестра вспомнила обо всем происшедшем, и с ней сделался нервный припадок.
После этого случая она не могла решиться вернуться на станцию, где с ней чуть было не произошла катастрофа. Сестра боялась, что там ее воспоминания еще сильнее обострятся. Она предпочитала лишних пять верст ехать в экипаже к другой, более отдаленной станции.
Таким образом, в момент самой опасности человек остается спокойным и падает в обморок при воспоминании о ней. Это ли не пример силы эмоциональной памяти и того, что повторные переживания, бывают сильнее первичных, так как продолжают развиваться в наших воспоминаниях» (13, с. 307).
Разберём этот случай. В момент опасности женщина переживала не за себя, а за дорогие ей письма, а потому, если бы она «вспоминала» чувства, то могла бы вспомнить только эти переживания за письма. Ночью же она вспомнила обстоятельства произошедшего, которые и вызвали у неё нервный припадок. Судя по всему, этот припадок был следствием осознания того, что с ней могло произойти – это не «воспоминание» чувств, а ситуация, когда мысль о том, что всё могло закончиться трагически, породила чувство страха. То же, что она после этого боялась вернуться на станцию – это уже явление психопатологическое, вызванное сильным эмоциональным потрясением. В неврологии описанное Станиславским патологическое явление именуется как «посттравматическое стрессовое расстройство». Однако речь может идти и просто о возникшей фобии или о таком явлении как «комплекс». Приведём цитату из работы В. С. Дерябина4: «Возьмём комплекс, возникший на почве испуга. Испуг вызывает определённое психическое переживание и явления в организме: сердцебиение, реакцию со стороны сосудистой системы… Но вот человек вырвался из окружающей обстановки, испуг прошёл. Комплекс теряет тон внимания. Течение представлений получает обычный характер. Но ещё долго аффект сказывается в своих психических и телесных компонентах. Время от времени ужасная картина восстанавливается в памяти – бьётся сердце, появляется дрожь… Встреча с лицом, в присутствии которого было пережито нечто обидное или очень радостное, какая-нибудь мелкая деталь этой встречи оживляют в памяти весь комплекс представлений… Это называется «чувствительностью комплекса» (4, с. 91, 92). Как видим, описанное Дерябиным явление в точности совпадает с описанием случая, приведённого Станиславским.
Но можно ли названные патологические явления считать проявлением памяти чувств? Как минимум, следует отличать нормальное проявление эмоциональной памяти от патологического. Патологические примеры для теории весьма полезны, и психопатологический материал весьма часто использовался психологией в ходе своего развития. Некоторые великие психологи одновременно были и психиатрами – достаточно назвать З. Фрейда, К. Г. Юнга, П. Жане. Отметим также, что в работах Рибо и Блонского в качестве примеров присутствуют фобии. Но одно дело, использовать психопатологию для построения психологической теории, и совсем другое – строить на ней актёрскую практику.
В последней главе первой части «Работы актёра над собой» описывается репетиция, где актриса разрыдалась над подкидышем потому, что сама недавно потеряла единственного сына, и режиссёр, не зная об этом, попросил представить, будто она потеряла ребёнка, но теперь нашла подкидыша. Это описывается как блестящая удача применения эмоциональной памяти. И это очередной пример Станиславского, который показывает, как актёр, получивший психологическую травму, должен стараться использовать это в своей практике и в нужный момент травму оживлять.
Можно сказать, что, поскольку слабая эмоциональная память для сцены бесполезна, Станиславский, по сути, стал строить свою «систему» на том, что имеет быструю и сильную силу оживления – на оживлении чувств, возникших в результате психологической травмы. Здесь, во-первых, возникает вопрос о том, насколько этично постоянно пробуждать в человеке полученную им психологическую травму. Во-вторых, если актёр будет регулярно делать это, то его психика попросту может не выдержать, и он рискует оказаться среди пациентов психиатрической больницы.
О негативном влиянии обращения к эмоциональной памяти на состояние актёров, следует отметить, указывал и М. Чехов в своих воспоминаниях: «аффективные воспоминания» часто приводили актеров (преимущественно актрис) в нервное и даже истерическое состояние» (14, 128). То, что чаще страдали именно актрисы, вполне естественно – женщины по своей природе более эмоциональны.
4
В. С. Дерябин – советский физиолог и психиатр, ученик И. П. Павлова.