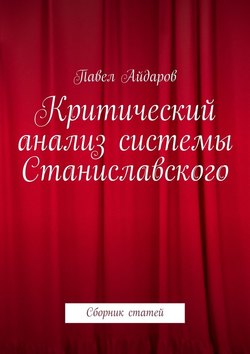Читать книгу Критический анализ системы Станиславского. Сборник статей - Павел Айдаров - Страница 7
О понятии «эмоциональная память» в системе Станиславского
Ⅳ
ОглавлениеВ современной психологии, а именно в работах П. Экмана, вроде бы присутствует то, что можно использовать в поддержку некоторых взглядов Станиславского по вопросу эмоциональной памяти – речь идёт о смешанности житейских чувств и подтверждении эффективности применения эмоциональной памяти в актёрской работе. Но это только на первый взгляд.
Прокомментируем сначала первое. Занимаясь вопросом культурной обусловленности эмоций, Пол Экман выдвинул гипотезу, что семь эмоций, имеющих сходные признаки во всех культурах, а именно: печаль, гнев, удивление, страх, отвращение, презрение и радость, являются одновременно и базовыми – в том смысле, что все остальные эмоции представляют ту или иную их смесь. Также он называет эти базовые эмоции «чистыми». Однако, во-первых, сам Экман говорит, что «это пока лишь догадка, не получившая подтверждения» (17, с. 235). Во-вторых, если Станиславский считает, что в реальной жизни чувства перемешаны, а эмоциональная память их «очищает», то, согласно Экману, мы встречаемся в жизни и с чистыми эмоциями, и со смешанными, хотя с последними чаще. В-третьих, говоря о вызывании чувств из эмоциональной памяти, Экман весьма далёк от мысли, что человек может «вспомнить» то, что ранее не переживал, каким-то образом комбинируя это из пережитого.
Теперь о втором – об эффективном применении опытов по вызыванию эмоциональной памяти актёрами. Эти опыты, следует сказать, не были направлены именно на исследование эмоциональной памяти, а проводились лишь с целью получения снимков выражения подлинных эмоций. Вызвать эмоции с помощью данного метода Экману никаких проблем не составило. Но здесь возникает вопрос: почему исследования Рибо лишь частично подтвердили существование эмоциональной памяти, эксперименты Кюльпе вообще отвергли наличие таковой, а в опытах Экмана эмоции вызывались таким способом без затруднений? У кого и в чём ошибка?! Экман этим вопросом совершенно не задаётся – надо полагать просто потому, что ничего не знает ни о Рибо, ни о Кюльпе. На основе его работ складывается ощущение, что он вообще плохо знаком с историей психологии и знает из неё только бихевиоризм и психоанализ, то есть те направления, которые популярны в США. В результате по очень многим вопросам он просто начинает «заново изобретать велосипед». Наиболее красноречивым здесь можно назвать то, что на способность внешних выражений эмоций вызывать и саму эмоцию он случайно наталкивается в ходе своих исследований, считает это своим открытием и называет «довольно новым и неожиданным» методом, хотя это было открыто ещё более ста лет назад и известно в психологии под названием «Теория Джеймса-Ланге»…
Экман говорит о двух видах опытов: с обычными людьми и с актёрами, практикующими систему Станиславского. У обычных людей фиксируемые физиологические параметры начинали изменяться уже тогда, когда им давались инструкции по поводу того, как именно можно вызвать эмоции из памяти (16, с. 70). Про мимику же на лице он в одной книге (16, с. 70) говорит, что у некоторых она появлялась уже при произнесении инструкций (про то, что было после инструкций, почему-то ничего не говорится). В другой же книге Экман пишет, что выражения на лице соответствующей мимики удавалось достичь «часто» (15, с. 99). Теперь посмотрим на эксперименты с актёрами. О них Экман пишет: «Подключив к актёрам аппаратуру и направив на их лица видеокамеры, мы просили их вспомнить и пережить с максимальной интенсивностью наиболее сильное в их жизни чувство гнева, затем страха, грусти, удивления, счастья и отвращения» (15, с. 84). О том, все ли актёры смогли воспроизвести все требуемые эмоции, Экман не пишет. Он лишь указывает, что таким способом удалось заполучить «чистые» эмоции, т. е. без примеси других. Кто-то может сказать, что этим подтверждается утверждение Станиславского о том, что эмоциональная память «очищает» чувства. Но нет, здесь речь идёт о другом. Экман, как уже говорилось, не считает, в отличие от Станиславского, что все чувства в жизни перемешаны. Но для тех исследований, которые он проводил, нужны были именно «чистые» чувства. Привлечение актёров смогло решить проблему того, что обычный человек зачастую начинает волноваться, когда за ним пристально наблюдают, когда на него направлены видеокамеры. Актёры же привыкли к этому – тем самым их привлечение позволило избежать посторонних эмоций. Здесь интересно отметить тот критерий, который Экман использует для оценки чистоты (и силы) воспроизведённых эмоций: «По ходу эксперимента мы периодически просили актёров оценить, насколько сильно они чувствовали требуемую эмоцию и ощущали ли при этом какие-либо другие эмоции» (15, с. 84). Получается, что критерием выступали просто субъективные ощущения актёров – очень ненадёжный критерий.
Теперь обратим внимание на то, что Экман просил вспомнить «наиболее сильное в жизни чувство». Если испытуемые актёры практикуют систему Станиславского, то они должны были уже многократно обращаться к эпизоду «наиболее сильного в жизни чувства». Но тем самым способность вызывать это чувство постоянным воспоминанием одного и того же жизненного эпизода должна была бы уже ослабеть. Это можно объяснить, во-первых, тем, что при одних и тех же воздействиях на нерв происходит его утомление – он начинает более вяло реагировать на раздражитель. Во-вторых, если подходить к вызыванию эмоции из памяти как к сформировавшемуся ранее условному рефлексу, то если раздражитель (в данном случае это та картина, которая всплывает в воображении) не получает соответствующего «подкрепления» (которое может дать только реальная ситуация, а не воображаемая), то он постепенно угасает и даже может иметь прямо противоположное действие (тормозить данную эмоцию). Другими словами, если у человека вызвал ужас ураган, то «подкрепить» ассоциацию между ураганом и ужасом может только новый ураган, который также повергнет в ужас; простое же воображение урагана, если и вызовет эмоцию ужаса в первый раз, то далее эта эмоция будет всё слабее и слабее – потому, что нет подкрепления. Экман же (в виде предположения) проводит мысль, что повторение воспроизведения чувств эмоциональной памяти – это упражнение, и чем больше в нём упражняешься, тем лучше выполняешь; актёры же как раз и выступают в качестве тех, кто данную способность натренировал. Однако всё это не соответствует физиологическим данным, многократно проверенным в различных экспериментах… Но это ещё не всё. Экман задействует актёров и в другом способе вызывания эмоций – путём искусственного воспроизведения внешних признаков эмоций. А после, подводя итоги проведённых экспериментов, пишет: «не забывайте, что их просили не изобразить эти эмоции, а лишь совершить определённые действиями мышцами лица» (15, с. 84). Однако «не забывать» в данном случае нужно самому Экману, ибо он проводил с актёрами два типа экспериментов. Но почему же в итогах он про первый вообще забывает, а говорит только о втором?! Или воспроизведение чувств из эмоциональной памяти всё же не дало требуемого результата?..
Но особый вопрос вызывает наличие среди эмоций, вызываемых путём обращения к эмоциональной памяти, эмоции удивления. Удивление, как уже говорилось выше, вообще нельзя испытать заново. И если актёры действительно воспроизводили эмоцию удивления, то это в принципе не могло произойти в результате одного обращения к эмоциональной памяти. Вполне возможно, что их воспоминание просто сопровождалось неосознанной внешней мимикой, которая и позволяла воспроизводить нужную эмоцию.
В другой своей книге – «Психология эмоций» – Экман вскользь касается способности актёров воспроизводить подлинное чувство радости. В отношении их способности вызывать сокращение окологлазных мышц, которые, как считалось, не поддаются намеренному воздействию, он предлагает два объяснения: либо это сокращение вызывается обращением к эмоциональной памяти, либо эти актёры относятся к той малочисленной группе людей, которые всё же могут управлять этими мышцами. Тем самым мы видим неуверенность уже самого Экмана в том, что актёры вызывают чувства именно обращением к эмоциональной памяти. Скорее, на каком-то этапе в вышеприведённых исследованиях им всё же была допущена серьёзная ошибка, и он принял одно за другое.