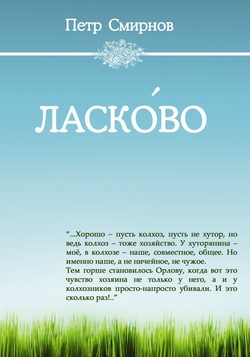Читать книгу Ласко́во - Петр Смирнов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ласко́во
Цыган Гаврила
ОглавлениеВ наших краях в те годы было много цыган. С ранней весны, как только зазеленеет первая трава, и до поздней осени, когда лошадям в поле взять уже нечего, цыгане жили в шатрах. Вставали табором на две-три семьи неподалеку от деревень, где-то в затишье, среди кустов, вблизи ручья. Чтобы и вода была хорошая рядом, и трава, и чтобы цыганки успевали напобираться и сготовить ужин.
Их шатры появлялись и возле нашей деревни, но редко и только осенью. Весной и летом мужики не позволяли им стоять на наших угодьях, потому что сенокосов и пастбищ самим было мало. А вот тя́глицкий Никандр, живший на хуторе недалеко от Ласко́ва, не занимал полностью свою землю, и возле него цыгане вставали табором не один раз за лето.
Ежедневно с утра цыганки уходили в деревни просить милостыню и гадать. Для большей убедительности в своей тяжкой доле таскали с собой малых детей. Взрослые цыгане и мальчишки оставались в таборе, сидели у костров, кормили и поили лошадей. Часто в таборе оставался один старик, а молодые цыгане верхом на лошади под попоной, без седла, уезжали в деревни искать случай обмена лошадьми. Это было главным в их жизни – иметь “придачу” за лошадь. Что там принесет цыганка?.. Всё будет съедено в один присест. Другое дело – цыган “примет” за лошадь! Или барана, или теленка, а то и немалую сумму денег. Цыган точно знает, у кого из мужиков появились деньги.
Группа цыганских семей, состоящих в родстве, обычно кочевала в одних и тех же местах. Поэтому крестьяне хорошо знали “своих” кочевников.
Гаврила Козлов часто бывал в нашей деревне, и мне он запомнился больше других цыган. Среднего роста, широкоплечий, немного сутулый. Лицо со следами оспы, окладистая черная борода, подпаленные куревом усы. Говорил мало, картавил и немного заикался, сидел на лавке обычно молча и беспрестанно курил махорку.
Мужики цыганам не верили, считали их обманщиками. Так оно и было. А иначе цыгану не на что жить, обман – цыганская профессия. Однако Гаврилу считали почти своим, ему доверяли больше. Может быть, отчасти потому, что его жена Устиха была русская. Может, он и вправду своих, ближних мужиков меньше обманывал.
Однажды отец захотел заменить состарившегося коня Ваську. Попросил Гаврилу пригнать коня помоложе и обменять на Ваську. Весной Гаврила приехал верхом на гнедом мерине. Конь был чуть меньше нашего Васьки, но круглее и упитаннее.
– Иди гл-ляди, – позвал отца Гаврила.
– Что ж глядеть, мне сеять надо, а на старом не отсеяться, – ответил папаша, оделся и вышел на улицу.
Обошел коня, осмотрел, спросил у тятяши:
– Гляди, тятьк, будем менять ай не? Наверно, придать придется.
Гаврила вмиг преобразился при этих словах. Отвязал от изгороди повод, кнутом подхлестнул коня по задним ногам. Конь подскочил и, дрожа всем телом, заплясал вокруг цыгана. А тот, держа повод в левой руке, знай похлестывал его по ляжкам да приговаривал:
– Гл-ляди! Гл-ляди! Гл-ляди! Да это не конь, а птица! Ты прлосил – я прлигнал! Как рлаз што тебе надо – молодой, ей-богу не врлу, шестой год, корломной (т. е. коромно́й – хорошо упитанный), не порлченый, век благодарлить будешь!..
Отец взмолился:
– Гаврил, Гаврил, брось, не стебай, не надо! Дай лучше проехать, в плуге попробыть, а бить не надо!
– На! Прлобуй, где хошь прлобуй! Мне стынно не будя, сам спасибо давать будешь, прлавду говорлю.
Подошли деревенские мужики.
– Давай, давай, Васьк, меняй, на барышах и нам што-нибудь перепадё, – пошутил Тимоха.
– Ме́ны без барышов не быва́я, – поддержал дед Бобка.
– Да-а, цыгану хоть плюнь, да на руку, – без придачи он менять не бу́дя, – добавил дядя Миша.
Тятяша молчал. Было видно, как жаль ему расставаться с любимцем Васькой. Потом проговорил тихо, будто самому себе:
– Доку́ль (доколе) не меняй, а хомут на гвозд повесишь.
Гаврилу вдруг это заело. Пока говорили мужики, он молчал, словно он здесь посторонний. А тут не стерпел:
– Ты коня гл-ляди, весь омман в глазах, прлобуй где хошь, я тебе всю прлавду говорлю, а ты гл-ляди. Когда я тебя омманул, скажи?!
Коня впрягли в плуг. Прямо за нашим двором была нетронутая полоска, на ней и решили испытать мерина.
Гаврила шел сбоку, готовый немедленно подстегнуть лошадь кнутом, если остановится. Отец просил не трогать коня – хотел убедиться, насколько тот обучен ходить в борозде и как выдержит испытание на тяговую силу. Наш старый Васька, к примеру, и в повозке и на пашне ходил быстро. На крепкой пашне он почти бежал, но быстро уставал, часто останавливался и тяжело дышал.
Цыганский конь шел ровно; плуг, правда, тянул, напрягаясь изо всех сил. “Комиссия” признала его годным. Отец, приплатив Гавриле овцу в придачу, променял его на Ваську. Гаврила, подстелив попону и сев верхом на Ваську, подстегнул его своим плетеным четырехгранным ременным кнутом. Конь, от роду знавший только ласку и не ведавший кнута, с места понес ошалелой рысью. У нас у всех – у тятяши, у отца, у мамы, у меня с Митькой невольно покатились слезы…
Прощай, Васька!
Всю свою конскую жизнь служил ты верой и правдой хозяину, нисколько не жалея себя, не вылезая из хомута с ранней весны до поздней осени. А под старость отдали тебя цыгану, потомственному кнутобою. Ох, и больно стегает цыганский кнут!..
Родился Васька, когда меня еще не было на свете. Масть его вначале была желтой. А я помню его белым с желтыми крапинами. Когда уже двухлетнего (“в боронку”) запряг его папаша в дровни, чтобы обучить, Васька сразу побежал как надо, рысью, ни разу не сбившись на галоп. Крепкий хозяин оставил бы такого жеребца для выезда, а работал на кобыле. Но отцу держать пару лошадей было не под силу. Поэтому, как ни жаль было, трехлетнего (“в соху”) Ваську отвели к коновалу. Когда рана зажила, Ваську в хозяйстве оставили одного. Кобылу, его мать, продали.
Васька был, как тогда говорили, уда́лый. Ни кнут, ни прут на него был не нужен. Хоть после пахоты, хоть после дальней поездки он шел весело, с высоко поднятой головой, чутко навострив уши. Стоило крохотной пташке выпорхнуть из-под ног, он весь вздрагивал от испуга, а то и шарахался в сторону или пускался в бег. Эту свою пугливость он сохранил до старости.
Зимой, когда работы в хозяйстве было немного, для Васьки любая поездка была немыслимым удовольствием. Помню, тятяша, чтобы размять застоявшегося в конюшне коня, запрягал его в легкие санки и, усадив меня рядом, ехал в Киселёво в церковь. От Ласко́ва до Тяглицы не было хорошей дороги, и лишь за Тяглицей Васька начинал кивать головою то влево, то вправо, прося хозяина разрешить ему бег.
– Ну, давай, Васька, давай, согрейся, – говорил тятяша, натягивая вожжи. И конь быстро набирал такую скорость, что у меня захватывало дух, и я обеими руками держался за тятяшу.
А когда я подрос, мне много приходилось и работать, и ездить на том коне.
Прощай, Васька! Где суждено тебе протянуть ноги и сделать последний вздох?..
На следующий день после обмена лошадей обнаружилось, что новый конь опоен. Ах, чертов цыган!.. Ах, Гаврила, Гаврила, гад ты тёмный! Обманул, будь ты проклят, бесов сын!..
– Я говорил, докуль не меняй, а хомут на гвозд повесишь, – сказал тятяша.
– Почём было знать, вчера не хрипел, – оправдывался отец.
Делать было нечего – пришлось работать хоть на опоеном, но более молодом коне.
А цыгане уехали неизвестно куда, и всё лето в наших краях их не было. Появлялись другие, незнакомые. Где Гаврила, они не знали. Разве выдаст цыган цыгана?
Гаврила появился уже под осень, встал табором на хуторе у Никандра, навестил Ласко́во сразу же:
– Слышь, Васьк, никак, говорля, ты и етого коня опоил?
Все матюги выложил на него отец, а Гаврила лишь клялся христом-богом, что ни в чем не виноват. Сошлись на том, что Гаврила подгонит другого коня. Через какое-то время отец еще раз у него сменял лошадь, и снова что-то ему приплатил. Куда было деваться?
Среди цыган Гаврила был самым богатым и авторитетным. Если другие имели одну-две лошади, то Гаврила – три, а то и четыре. У него был постоянный резерв, который он пускал в обмен в самый для себя выгодный момент, и как никто другой умел получить барыш. И Устиха не “цыганила”, как другие, не клянчила, а сидела у людей степенно и уверенно, ждала, когда подадут. Ей и в самом деле подавали без её просьб.
У Гаврилы с Устихой было двое детей – дочь Нюшка, старше меня лет на пять, и сын Ваня, мой ровесник. Помню Нюшкину свадьбу. Со всей округи приехали цыгане и весь день пели и плясали на улице (дело было летом). Все пили, но пьяных не было, только веселились. “Цыган богатый, и свадьба богатая”, – говорили в народе. Правда, с тем мужем Нюшка жила мало, вскоре от него ушла и вышла за другого. Лет через десять стала матерью-героиней.
Ваня играл вместе с нами, когда мы бегали в их табор. Изредка, тайком от отца, и он прибегал к нам в Ласко́во. Видимо, русская материнская кровь звала его к деревенским ребятам, а отец этого не одобрял. Учиться цыганскому языку Ваня наотрез отказался. Нам удалось уговорить Ваню ходить с нами в школу. Устиха согласилась. Правда, Ваня через неделю школу бросил.
О Гавриле, смеясь, рассказывали, что однажды на ночлеге в деревне у его жены начались родовые схватки. Устиха разбудила мужа – беги, мол, за бабкой. А ему очень не хотелось вставать, идти тёмной осенней ночью по грязи. Пробурчал:
– О-о, бес, о-о, бес, надумала ночью рложать, тебе дня не было? Погоди до утрла, тогда пойду…
Ещё случай. Гаврилу в одной деревне мужики за обман били. Уж не знаю, чем именно – кольями или только кулаками. Гаврила отбивался кнутовищем. А кнутовище у него было бамбуковое, внутри залитое свинцом. Если ударить толстым концом, мало кто устоит на ногах. Но в тот раз Гавриле пришлось туго, и он стал звать-кричать на помощь жену:
– Устих, бей котел-лком, не жалей сметаны!!
Таким я запомнил Гаврилу Козлова.