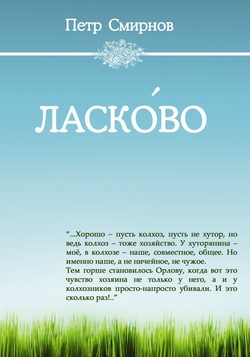Читать книгу Ласко́во - Петр Смирнов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ласко́во
Нищие
ОглавлениеИх у нас называли побира́хами или побирашками. Запомнились они своими именами и названиями деревень, откуда были родом.
Дёмка Бельский (из деревни Белое), лет пятидесяти пяти, побираться ходил один. Одет был в рваньё, обут в лапти зимой, в поршни (самодельные калоши) весной, летом и осенью – босиком. На голове – рваный треух, в руках палка – отгонять собак и стращать ребят. Не так мы боялись его палки, как его угроз посадить в холщовую грязную суму и унести в лес.
В деревне Тине́и мужики и бабы – отменные зубоскалы, им бы только посмеяться, хоть бы и над стариком. Обойдет Дёмка деревню избу за избой, направится к околице, а ему вопрос:
– Теперь куда ж, Дёмк?
– В Ха́рино, в Харино пойду.
– Ну-у? К Крюка́м?
Харинских прозывали “Крюками”, а Дёмке показалось, что дорога, мол, будет не прямой, а крюками.
– Каким крюкам, каким крюкам? Тут большак, большак тут.
А тинеинским смешно:
– Не-е уж, Дёмушк, там всё Крюки.
– Какие крюки, какие крюки? Тут всё большак, большак.
Так и шел Дёмка по большаку до Соро́кина и всё удивлялся:
– Какие крюки, какие крюки? Большак тут, большак.
Подружки Шу́шеринские (из деревни Шу́шерино) – три сестры: Дуня, Даша и Саша. Редко ходили в одиночку, чаще – вдвоем, а одна оставалась дома с престарелой матерью. Просили хлеба, но главное – чтобы посадили за стол и накормили. Иной раз и угодить им было трудно.
Приходит “подружка” в дом, а хозяйка печёт овсяные блины.
– Блинков поел бы, – пищит гостья.
– Что с тобой делать – садись, ешь, – говорит хозяйка.
А у самой семья на работе, вот-вот на завтрак придут. Поставила перед подружкой чашку с блинами, в другой чашке – толчёная картошка с молоком. Макай блинами и ешь. То же и семья будет есть, поработав вволю. А подружка, хоть и близорукая, разглядела, что над печью овчина сохнет. Значит, баран зарезан, должны быть шкварки.
Морщится и снова пищит:
– Не-е, хоцу́ каво-нибудь пожирне́и да посолоне́и…
– Не́ уже, – говорит хозяйка, шкварок для тебя нет. А не хошь есть, что дают, стало быть, не голодная.
Обиделась подружка и ушла.
Вася Тюте́хин из деревни Трубецкое, мужик лет тридцати пяти, ходил один, одевался опрятно, сумы не носил, кусков не собирал. Придя в избу, не уходил до тех пор, пока хозяева не пригласят его обедать вместе с собой. Любил девок, собирался жениться.
– Ва-ась, тебе жениться пора, – говорили ему, – что ж ты ходишь, а мамка одна дома.
Вася такому разговору рад. Сидя за столом, делал серьёзное лицо, выпрямлялся, закидывал ногу за ногу:
– Да, надо жениться. Хотел погулять еще, не старый я, а надо жениться.
Понравилась ему в нашем Ласко́ве Клавдя Мишина, и стал Вася ходить в Ласко́во чуть ли не каждый день. Придёт к Мишиным и сидит там до вечера, на Клавдю любуется, хвалит её, просит нарядно одеться.
Клавдя и правда девка красивая, полная, высокая. Любила шутить. И Васе в шутку пообещала выйти за него. Потом и самой, да и всей семье надоели Васины посещения, но как от него избавишься – рассердишь ещё, натворить чего может. Может и хоромы зажечь летом, в сушь, когда вся семья на работе.
Случай, однако, представился. В очередное сватовство Вася предупредил:
– Только маму мою не обижать!
Клавдя быстро нашлась:
– Что-о? У тебя мама жива!? Тогда я замуж не пойду. Я не буду кормить твою маму. Ищи другую жёнку.
Растерялся Вася. Без мамы он свою жизнь не представлял. Как ни хороша Клавдя, мама ему дороже.
Не сразу отстал он от Клавди. Но она, наконец, заявила, что не будет наряжаться и даже с ним разговаривать, пока его мама жива. Такой дерзости Вася стерпеть не мог даже и от Клавди. Он перестал к ней ходить. Даже Ласко́во стал обходить стороной.
В Тинеях ему понравилась Дуся.
– Нарядись-ка, я на тебя погляжу, – сказал он Дусе. Да так пристал, что та, выйдя якобы за нарядами, была вынуждена спрятаться на чердаке. Не дождавшись, когда она выйдет к нему нарядная, обиделся и ушел.
Варуша и Костя Сетро́вские (из деревни Сетро́во) – мать и сын. Побирались то вместе, то врозь.
– Ко-ость, а ты старый стал. Сколько ж тебе годов? – спрашивали его.
Костя стоит у порога, опираясь обеими руками на палку. Обводит глазами избу, что-то подсчитывает, шепчет. Потом вскидывает глаза, отвечает:
– Ага, старый, сорок пять мне.
– Ну-у? Тебе уже сорок пять? А сколько ж мамке тогда?
– Ага, много мамке – мамке сорок.
Косте было лет двадцать.
Через много лет, когда я работал председателем колхоза в Жгилёве, Костя нанялся пастухом колхозного стада. Жена его Настя возила из соседнего колхоза молоко. Когда ехала обратно с порожними бидонами, привязывала лошадь к кусту, а сама шла к Косте. Коровы во время свидания были предоставлены сами себе и травили посевы.
Станешь ругать его – он крик поднимет такой, что не дай бог. Уйти грозится:
– Добавляй плату, нашёл дурака!
Платил ему колхоз зерном или мукой, и деньгами – каждый месяц. Получит оплату – и весёлый, довольный Костя уедет с Настей домой. Съедят большой семьёй хлеб (а у Насти от покойного первого мужа было четверо детей), истратит Настя деньги недели за две, навестит Костю в кустах – бежит ко мне Костя, плату требует, грозится бросить стадо.
– Всё, – говорю, – Костя, уходи. Завтра другой пастух будет.
– А я куда? – уже тихо спрашивает Костя.
– Иди к своей Насте. Это она тебя будоражит, домой зовёт, чтобы ты ушел из пастухов.
Костя совсем смирным делается.
– Не-е, Пётра Васильев, ты ить и сам не глупо́й, мне идти некуда.
– К Насте иди, – говорю, – к своей дорогуше. Она ведь не хочет, чтобы ты пастухом работал.
Костя опускает глаза и уже меня уговаривает:
– Ты ить и сам не глупой, понимаешь – там хлеба нет, а ребят много. Ты дай хлеба.
– Ладно, пусть твоя Настя приезжает, выпишу тебе авансом пудов пять ржи.
Костя рад. Авансом – это он не понимает, главное – есть хлеб для Насти. Сам у колхозников ест и одевается. И у Насти хлеб есть пока.
Как только Настя с ребятами хлеб съедят, всё начинается сначала.
Савиха Ка́менская. Имени её не помню. Ходила иногда с такой же лапотной бабой Таней, тоже из Ка́менки. У Савихи когда-то сгорело гумно. Горело, видимо, ярко, потому что мужики, когда играли в карты, бубновый туз называли “Савихино гумно”.
Ходили и побирались также незнакомые из дальних деревень. Помню, ночевал у нас один мужик и загадывал нам с Митькой разные загадки. Тут же их и разгадывал, потому что нам было не под силу, а взрослым было некогда. Одну задачку я запомнил, а когда пошёл в школу, смог её решить. Вот она. Шёл мужик в церковь и подумал: если бы помог мне бог найти денег столько, сколько у меня есть, я поставил бы ему свечку за три рубля. И он нашел ровно столько, и поставил свечку за три рубля. Второй раз он шел в церковь и подумал: помог бы мне опять бог найти денег столько, сколько у меня осталось, я опять бы поставил ему свечку за три рубля. И нашел мужик денег столько, сколько осталось от покупки первой свечи, и опять поставил свечку за три рубля. Третий раз он шел в церковь и подумал: помог бы мне бог опять найти денег столько, сколько у меня осталось, и я опять поставил бы свечку за три рубля. И нашел он ровно столько, сколько у него осталось. И купил третью свечку за три рубля. И денег у него не осталось. Сколько же их было у него в первый раз?
Не проходило дня, чтобы побирахи или цыганки не посетили каждый дом, где подают. Только Груню в нашей деревне обходили – там подать было нечего. Грунину бедность в народе считали божьей карой за неподаяние нищим.
В предпраздничные и праздничные дни от побирах просто не было отбою. В избу вваливалось сразу по три-четыре “гостьи”. И все просили. И не кусок хлеба только. Побирахи просились за стол отобедать. Но эти хоть стыд какой-то имели: если одну сажали за стол, другие, получив кусок хлеба, уходили обедать к соседям. А вот цыганки никогда не просились за стол, зато просили подать им мяса, масла, молока, сметаны, яиц, кочан капусты – всё, что видят глаза, или о чём известно. У побирах всё с собой; у цыганки семья, её надо накормить. Если просить не умеешь, принесёшь мало, накормишь плохо – цыган “научит”. Такого кнута отведаешь – долго помнить будешь. И никому не пожалуешься – у цыган свои, неписаные таборные законы.
Поэтому цыганка просит так, что отказать ей очень непросто. Видимо, умение просить не зря называют “цыганить”.
Цыгане, хотя и побирались, не считали себя нищими, да и на самом деле не были ими. Многие из них были поистине богатыми.
А нищие в деревнях – это люди, неспособные вести хозяйство на земле по разным причинам: стихийное бедствие, увечье, отсутствие ума или просто желания работать на земле.
Вот типичное “явление побирахи народу”. Горячая пора уборки. Обед. В окно видно: к избе бредёт, отбиваясь палкой от нашего пса Мильтона, плохо одетая, с торбой, босая баба средних лет.
– Опять какая-то побираха, – говорит папаша.
– Уже треттия севодни, – задвигая ухватом горшок со щами в печь, откликается бабуша.
Побираха стучит палкой в сенях. Медленно открывается дверь и через высокий порог шустро вваливается как-то вся сразу грязная баба, еще оборачиваясь и как бы заслоняясь от пса палкой. Мильтон побирах сильно не любит, потому что ходят с палками. На цыганок полает немного и отстанет. Те не носят палок и не обращают на собак никакого внимания. А побирах Мильтон сперва “провожает” до самых дверей, а когда покидают дом – далеко за околицу.
Закрыв за собой дверь, баба останавливается у порога, крестится на образа, опирается на палку обеими руками и произносит:
– Драстуйти. Хлеб да соль вам.
– Поди, поди (т. е. входи) – отвечает папаша и первым выходит из-за стола, крестясь.
– Откуль же ты? – спрашивает тятяша, сгребая со стола крошки.
Побираха отвечает не сразу. Все уже вышли из-за стола.
– С Лё-ёхина, – тихо отвечает баба.
– С Лё-ёхина? – удивляется тятяша. – А бытта в Лёхине не было побирах?
– Не было, кормилец, давно не было.
– Ай беда какая? Пожару бытта не слыхать было?
– Коровка пропала, дядюшк, в прошлом ишшо годе. Навозцу не было, вот земелька и не родила. Стали иржицу жать, да только на семянки и хватило. Вот и пошла по миру. Наделите, Христа ради.
Бабуша отрезает от хлеба укрóйку (краюху), молча подает.
– Спасибо, кормильцы, спасибо, родны́и, приспори́ вам, господи, дай вам бог здоровьица.
Уходит, благодаря бога и хозяев.
По-другому побирались цыганки. Идут по улице, шумно галдят на своем языке. Вваливаются в избу гурьбой, не крестясь, весело наперебой здороваются:
– Здравствуйте, хозяюшка! Как живы-здоровы? Тихо ль у вас, здоровы ль детушки? Не надо ль погадать?
Дождавшись, пока выговорятся, хозяйка, у нас это – бабуша, отвечает:
– Подите, подите, давно вас не было, я уж сгрýсла (т. е. заскучала) по вам.
Цыганки мимо ушей пропускают иронию:
– Праздником пахнет у вас, надели́, хозяюшка, кусочком мяса. И вам бог приспорит, в божьем писании сказано: рука дающего да не оскудеет.
– А щас, про вас (т. е. для вас) овцу зарезали. Вон свои ребяты облизываются – хоть бы ко́стки поглодать.
– Не скупись, хозяюшка, не себе прошу – цыганяткам снесу, их полная куча в кустах оставлена, все есть хотят.
– Сама нарожала, никто не виноват, – говорит бабуша.
– Ах, хозяюшка, цыган молодой, красивый, любовь горячая…
– Ладно, на́ кусок, отстань только, – бабуша подает заранее приготовленный кусочек мяса. Цыганка прячет его куда-то под одежду, а бабушу тут же атакует другая:
– Надели и меня, хозяюшка.
– Идите, идите, мне всех не наделить. Нету больше.
Не тут-то было! Как не отговаривалась бабуша, пришлось всем дать хоть по малому кусочку мяса.
Когда цыганки наконец ушли, тятяша сказал:
– Всё равно подала, лучше б сразу.
– Сиди! – огрызнулась бабуша.
Что ещё сказать о нищих? Думаю, что главной причиной их образа жизни была собственная лень. Тот же Костя Сетровский перестал ходить с торбой, стал работать и кормить Настю с детьми, когда колхозники перестали подавать, потому что в те послевоенные годы у самих не было хлеба. А вот Афонька Мироновский еще долго ходил с торбой, хотя сын его – тракторист – хорошо зарабатывал.
Не зря говорили – суму надеть трудно, а снять ещё труднее.