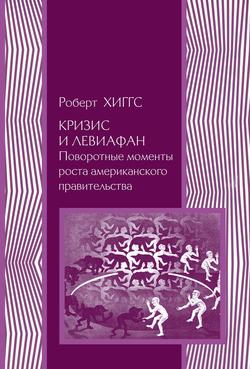Читать книгу Кризис и Левиафан. Поворотные моменты роста американского правительства - Роберт Хиггс - Страница 11
Часть первая
Концептуальная схема
Глава 2
Насколько выросло правительство?
Традиционные показатели и альтернативный подход
Храповик: традиционные и фундаментальные показатели
ОглавлениеМногие ученые пришли к выводу, что традиционные показатели размера правительства указывают на существование в ХХ в. эффекта «храповика», т. е. прерывистого повышательного движения: после каждого значительного кризиса размер государства становился хоть и меньше, чем на пике кризиса, но больше, чем был бы, если бы вместо кризиса темпы роста остались прежними. Этот вывод в целом подтверждают, пусть и не без исключений, данные табл. 2.1 и рис. 2.1, 2.2 и 2.3. В зависимости от того, какой показатель анализируется и какой кризис рассматривается, «храповик» то виден, то нет. Однако каждый кризис указывает на эту закономерность если не по одному показателю, то по другому.
Но простые наблюдения не всегда позволяют прийти к убедительным выводам. Выйдет ли показатель после кризиса на уровень, более высокий, чем был бы в отсутствие кризиса, зависит от выбора точки отсчета. Тренд можно выявлять разными методами, и не всякий метод указывает на существование эффекта храповика. Подобная неопределенность может завести нас в трясину споров между статистиками и архитекторами никогда не существовавшего мира[63].
Обоснованная корректировка данных тоже может привести к исчезновению того, что вначале принимали за «храповик». Например, если исключить из послекризисных расходов суммы, предназначенные на пособия ветеранам и проценты по разросшемуся во время войны государственному долгу, на том основании, что эти платежи суть не что иное, как отбрасываемые кризисом длинные тени, то эффект храповика, казалось бы, возникающий после каждой из двух мировых войн, сильно уменьшается или даже вовсе исчезает[64]. Обоснованны ли подобные исключения? Все зависит от того, какая гипотеза проверяется, и особенно от того, идет ли речь о возросшем масштабе деятельности государства или о возросшем участии государства в формировании доходов индивидов.
Другой распространенный подход заключается в том, чтобы отделить федеральные расходы на оплату труда от аналогичных расходов низших органов власти и, соединив идею храповика с идеей, что кризис ведет к централизации власти, сосредоточиться исключительно на федеральной деятельности[65]. Но эффект храповика и централизация не обязательно связаны между собой – они могут проявляться и по отдельности. Кроме того, может не иметь значения и то, растет ли государственный сектор на федеральном уровне или более низком. В ХХ в. стало еще труднее различать уровни государственной власти. Федеральные субсидии штатам и местным органам власти поощрили их и позволили расходовать и нанимать людей больше, чем в отсутствие этих дотаций[66]. К тому же многое из того, чем занимаются органы власти низших уровней (например, программы штатов по страхованию по безработицы) представляет собой либо их вынужденное подчинение федеральным требованиям, либо участие в «добровольных» программах, за которые дорого расплачиваются те, кто не принимает в них участия. Когда деятельность и финансирование органов власти разного уровня переплетены настолько тесно, традиционные бухгалтерские разграничения могут приобрести искусственный и произвольный характер. Слияние юрисдикций затрудняет проверку гипотезы о централизации и делает сомнительным подход, рассматривающий органы власти какого-либо уровня так, будто оно независимо от органов власти других уровней. Программы, созданные конгрессом, зачастую проводятся в жизнь служащими местных органов власти. Поэтому в наблюдающемся после Второй мировой войны опережающем росте численности государственных служащих на низших уровнях власти нет ничего удивительного, да и ничего значимого[67]. Несмотря на многочисленные недостатки количественных показателей, представленных в табл. 2.1, экономисты и политологи, за немногими исключениями, продолжают исследования роста государственного сектора, опираясь на подобный фактический материал. Некоторые осознают проблематичность использования столь неоднозначных данных. Сэм Пельцман, например, начинает свою работу с замечания, что «отождествление роли государства в экономической жизни с величиной бюджета… это очевидная ошибка, так как многие виды деятельности государства (например, законодательные акты конгресса и административные требования) перенаправляют ресурсы столь же надежно, как налоги и государственные расходы». Но, обозначив проблему, он тут же отклоняет ее заявлением, что «имеющиеся данные не оставляют другого выбора»[68]. Это напоминает историю про пьяного, который ищет потерянные ключи под уличным фонарем, «потому что здесь светлее». Экономистам привычны эмпирические исследования, возбуждающие разногласия из-за отсутствия прямых показателей, строго соответствующих определяемым теорией переменным; отсюда бесконечные споры по поводу адекватности эмпирических показателей, об ошибках измерений, контроле трендов и т. п. Иногда раздоров по поводу эконометрических исследований избежать невозможно, потому что не существует подходящей альтернативы.
К счастью, эмпирический анализ роста государства не обязательно привязывать к стандартным количественным показателям, которые в лучшем случае дают неполную и сомнительную картину происходящего, а в худшем просто вводят в заблуждение. Мы располагаем другими данными, не только менее неоднозначными в эмпирическом плане, но и более уместными в теоретическом. Как заметил Роуз, «данные всегда найдутся, если постараться и если позволяет предмет»[69]. Я утверждаю, что высокий уровень налогов, государственных расходов и занятости являются результатом Большого Правительства, но не составляют его существа. Сущность же Большого Правительства состоит в масштабе его полномочий по принятию экономических решений. Полномочия – прежде всего: если нет полномочий, то нет ни налогов, ни расходов, ни армии государственных служащих. Источником полномочий являются распоряжения исполнительных органов власти, принимаемые конгрессом законы, решения судов и директивы регулирующих ведомств. Все они открыты для исследователей. И они не становятся менее важными оттого, что их нельзя представить в виде ровной колонки цифр, которыми так легко и удобно оперировать, и оттого, что для оценки их смысла и значимости нужно приложить немалые усилия. Если экономист не расположен к анализу такого рода фактов, ему, возможно, следует сменить сферу деятельности. Ключи, потерянные в темной подворотне, не найти ни под фонарем, ни даже под мощным прожектором. Зрелище экономиста, использующего потрясающую технику математического и статического анализа для обработки в высшей степени сомнительных и вводящих в заблуждение данных, может только отвратить того, кому важнее понять реалии этого мира, а не изумить коллег аналитической пиротехникой.
Но если сосредоточиться на фундаментальных вещах – на формах и последовательности расширения власти государства над размещением ресурсов, – можно получить достаточно внятное и адекватное представление о процессе роста государственного сектора. При таком подходе важны факты, характеризующие потенциал государства. Экономистам известна разница между производительным потенциалом экономики и степенью реализации этого потенциала. Один из разделов экономической науки, теория экономического роста, посвящен пониманию первого, а другой, макроэкономика, имеет дело со вторым. При этом экономисты и многие политологи, занимающиеся изучением государственного сектора, действуют так, будто масштабы деятельности государства можно понять, не уделяя внимания базовому потенциалу. Однако демократическое государство не может заниматься тем, на что у него нет полномочий. Полномочия первичны, а деятельность вторична и проистекает из полномочий. Долгосрочный рост выпуска в экономике почти целиком зависит от роста производственного потенциала, а не от степени реализации этого потенциала в любой данный период времени. Точно так же и долгосрочный рост экономической активности американского государства зависел преимущественно от возрастания масштаба полномочий государства по оказанию влияния на принятие экономических решений, а не от того, в какой степени в то или иное время этот потенциал был реализован.
Удается ли обнаружить эффект храповика в ходе исследования расширения в ХХ в. полномочий государства по влиянию на принятие экономических решений? Полагаю, да. Не думаю, что историки станут спорить с моим выводом. Но этот вывод невозможно убедительно документировать в такой же сжатой и обозримой форме, как при использовании традиционных количественных показателей роста государственного сектора. Вокруг полным-полно убедительных иллюстраций: взять хотя бы глубокую вовлеченность государства в отношения менеджмента и рабочих, в систему социального страхования, сельскохозяйственные рынки, финансовые учреждения или огромный военно-промышленный комплекс – все это возникло в ходе прошлых кризисов на основании распоряжений исполнительной власти, законов, принимаемых конгрессом, решений судов и других властных действий. Но иллюстрации – это всего лишь иллюстрации. По-настоящему убедительные свидетельства в пользу моего тезиса может дать только обширный исторический анализ. А сейчас я приглашаю читателя принять мои утверждения только в качестве правдоподобного исходного пункта исследования. В свое время я представлю множество доказательств.
63
Недавний пример исследования, вдохновленного подобного рода эконометрическими задачами, см.: Karen A. Rasler and William R. Thompson, „War Making and State Making: Governmental Expenditures, Tax Revenues, and Global Wars,“ American Political Science Review 79 (June 1985): esp. 496–499.
64
Jacob Metzer, „How New Was the New Era? The Public Sector in the 1920’s,“ Journal of Economic History 45 (March 1985): 119–126. См. также сходное, но куда более обширное исследование: John Maurice Clark, The Costs of the World War to the American People (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1931). Здравое рассмотрение этого вопроса с использованиеv данных по Британии см.: Alan T. Peacock and Jack Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961), pp. 52–61.
65
Bennett and Johnson, Federal Government Growth, pp. 70–76. Соединение идеи храповика и гипотезы о концентрации власти обычно восходит к чрезвычайно осмотрительному и квалифицированному исследованию расходов британского правительства: Peacock and Wiseman, Growth of Public Expenditure, esp. pp. 30, 118–120).
66
Browning and Browning, Public Finance, pp. 475–483; Wallace E. Oates, „Searching for Leviathan: An Empirical Study,“ American Economic Review 75 (Sept. 1985): 752. Оутс также делает вывод (с. 756), что «не существует сильной, систематической связи между размером правительства и степенью централизации государственного сектора».
67
Джон Джозеф Уоллис утверждает, что «содержанием происшедшего в 1930-е годы фундаментального изменения в структуре государственной власти было перемещение расходов с местного уровня на уровень штатов и федерации… что можно объяснить финансовой организацией программ федерального правительства». См.: John Joseph Wallis, „The Birth of the Old Federalism: Financing the New Deal, 1932–1940,“ Journal of Economic History 44 (March 1984): 139. См. также: Idem, „Why 1933? The Origins and Timing of National Government Growth,“ in Emergence of the Modern Political Economy, ed. Robert Higgs (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1985).
68
Sam Peltzman, „The Growth of Government,“ Journal of Law and Economics 23 (Oct. 1980): 209.
69
Rose, „Are Laws a Cause,“ p. 13. См. также: B. Guy Peters and Martin O. Heisler, „Thinking About Public Sector Growth: Conceptual, Operational, Theoretical, and Policy Considerations,“ in Why Governments Grow: Measuring Public Sector Size, ed. Charles Lewis Taylor (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1983), pp. 178–181.