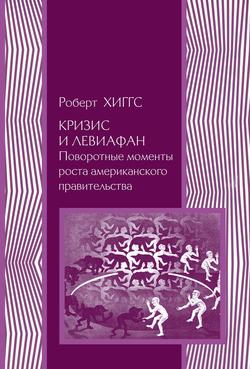Читать книгу Кризис и Левиафан. Поворотные моменты роста американского правительства - Роберт Хиггс - Страница 7
Часть первая
Концептуальная схема
Глава 1
Источники Большого Правительства: критический обзор гипотез
Объяснения роста правительства
ОглавлениеМодернизация
Между строк многих исторических трудов можно вычитать гипотезу модернизации. Она сводится к тому, что современная городская и промышленная экономика просто не может существовать без деятельного и обширного правительства, так что в конце ХХ в. о политике laissez faire нечего и мечтать. Разглагольствования об абсурдности государства на гужевой тяге в космическую эпоху или о невозможности повернуть вспять часы истории сообщают этой идее оттенок риторического правдоподобия. Но вопрос о том, почему современной экономике необходимо Большое Правительство, так и остается без ответа.
Сторонники модернизационной гипотезы порой утверждают, что в силу своей сложности современная городская промышленная экономика требует активной деятельности со стороны государства. Калвин Гувер настаивал: «Утверждение о том, что рост усложненности и взаимозависимости современной жизни влечет за собой расширение полномочий государства, стало привычным штампом, но от этого не перестало быть истиной»[10]. Никто не отрицает, что экономика стала сложнее. Быстро распространилось множество новых видов продукции, технологий и отраслей промышленности. Выросла численность населения, и оно сконцентрировалось в городах. Возросли межрегиональные и межгосударственные потоки товаров, денег и финансовых инструментов. Углубление специализации и разделения труда сделали людей менее самодостаточными и более зависимыми от сетей распределения и обмена.
И все же вывод о том, что без усиления государственного вмешательства невозможна эффективная координация усложняющейся экономики, логически некорректен. Многие экономисты, от Адама Смита в XVIII в. до Фридриха Хайека в ХХ в., доказывали, что открытый рынок – наиболее эффективная система координации и согласования социально-экономических процессов, потому что только рынок систематически принимает постоянно меняющиеся сигналы, передаваемые миллионами потребителей и производителей, и отвечает на них[11].
Этот аргумент переворачивает модернизационную гипотезу вверх ногами: государство может справиться с координацией экономической деятельности в простой экономике, но в условиях сложной экономики эта задача ему не по силам. Чтобы осознать весомость этого аргумента, достаточно вспомнить об искусственном дефиците и очередях за бензином в США в 1970-х годах, а также о постоянной нехватке потребительских товаров в социалистических странах.
Разумеется, функционирование рыночной экономики зависит от характера и степени конкуренции. Некоторые наблюдатели полагали, что в конце XIX в. возникновение крупных компаний фундаментально изменило условия конкуренции и возвестило начало новой эпохи развития. «Превращение конкуренции в монополию, – писал В. И. Ленин в 1916 г., – представляет собой одно из важнейших явлений – если не важнейшее – в экономике новейшего капитализма». Если согласиться с этим утверждением, можно истолковать рост государственного регулирования в конце XIX и в начале XX в. как реакцию общества на рост цен, сокращение производства и искажение паттернов распределения, которые породил бы крупный бизнес в отсутствие регулирования. Наиболее яркими примерами могут служить принятие антитрестовских законов и создание Федеральной комиссии по торговле, а также множества регулирующих органов в разных отраслях, таких как Комиссия по торговле между штатами и Федеральная комиссия по связи. Словом, в соответствии с этим толкованием модернизация экономики привела к росту частной монопольной власти, и чтобы сдерживать этот губительный и безответственный монополизм, государство расширило свои полномочия[12].
Это объяснение не выдерживает проверки теорией и фактами. В конце XIX в. возникло много крупных корпоративных предприятий, и в начале следующего столетия по Америке прошла волна слияний, приведших к созданию таких индустриальных гигантов, как United States Steel, American Tobacco и International Harvester. Однако нет доказательств того, что экономика в целом стала существенно менее конкурентной. Даже в рамках отдельных отраслей ни наличие гигантских фирм, ни высокие значения коэффициентов концентрации производства не доказывают отсутствия эффективной конкуренции. Создатели крупных компаний стремились стать монополистами и получать соответствующие прибыли, но им редко удавалось долго удерживать эти высоты. Важнейшим аспектом конкуренции является динамизм, создаваемый технологическими и организационными инновациями, и ни размер фирм, ни степень концентрации производства не создают серьезной угрозы благосостоянию общества[13]. Более того, хотя в центре внимания аналитиков из числа сторонников теории монопольной власти находилась почти исключительно промышленность, этот сектор не является ни единственным, ни важнейшим; ни в каком разумном смысле его нельзя считать ни «доминирующим», ни наиболее «стратегическим». В других отраслях – например, в оптовой и розничной торговле, – конкуренция резко обострилась как раз на рубеже XIX – ХХ столетий. Только представьте, сколько местных бастионов монополизма сокрушило появление таких фирм посылочной торговли, как Sears, Roebuck & Company и Montgomery Ward. Во многих отраслях монополистические поползновения крупнейших компаний сдерживались давлением реальных или потенциальных иностранных конкурентов.
Кроме того, действия государства были направлены скорее на поддержку слабых конкурентов, нежели на обеспечение сильной конкуренции. В этом отношении показательна деятельность Федеральной комиссии по торговле и других отраслевых регуляторов. Как отметил Джордж Стиглер, «регулирование и конкуренция союзники только на словах, но на деле это смертельные враги: над дверью всех регулирующих ведомств, кроме двух, следовало бы выбить слова „Конкуренции вход запрещен“. Над входом в Федеральную торговую комиссию следовало бы выбить „Конкуренция: прием с черного хода“, а над дверью в Антитрестовский отдел Министерства юстиции» слова „Монополия только по нашему предписанию“[14]. Государственные регулирующие органы чаще создавали или поддерживали частную монопольную власть, чем ослабляли или разрушали ее. Именно этого и добивались от государственного регулирования многие заинтересованные группы, хотя, разумеется, они никогда бы не признались в этом на публике. «Общий вывод» историков регулирования сводится к тому, что «политика регулирования была результатом запутанной сложной борьбы между ожесточенно соперничавшими между собой заинтересованными группами, каждая из которых по возможности использовала государственный механизм для достижения своих частных целей, связанных с идеологией „интересов общества“ разве что на тактическом уровне»[15]. Но антитрестовская политика и регулирование цен, услуг и доступа фирм на рынок – как бы ни оценивать соответствующие мотивы и результаты – лишь малая часть разнообразной деятельности современного государства.
Иногда аргументы в пользу модернизационной гипотезы ссылаются на рост населения. Растущее многолюдство неизбежно создает побочные издержки, которые экономисты называют «отрицательными внешними эффектами (экстерналиями)», – третья сторона, вопреки своему желанию, несет издержки чужой деятельности. Обычный пример отрицательных внешних эффектов – загрязнение воды и воздуха. Если законы не в состоянии защитить право частной собственности на все ценные ресурсы, в том числе на чистые воду и воздух, то в условиях свободного рынка отрицательные внешние эффекты могут стать причиной неэффективного использования ресурсов и производства. Например, сажа из вашей фабричной трубы может испачкать мое белье, повешенное сушиться на улице, но я не могу добиться, чтобы вы оплатили мне ущерб или по крайней мере прекратили загрязнять воздух во всей округе. С точки зрения общества ваша фабрика проявляет чрезмерную активность, потому что часть издержек, без нашего согласия или компенсации, переносится на третьи стороны вроде меня, которые не имеют права решать, как работать фабрике.
Считается, что государственное регулирование может поправить подобные ситуации. Получалось ли у него это в действительности, исторически зависело от структуры регулирования и проведения его в жизнь, что, в свою очередь, отчасти определяло издержки и выгоды от вмешательства. Сторонники модернизационной гипотезы принимают как само собой разумеющееся то, что отрицательные внешние эффекты исторически были широко распространены и существенны, что деятельность государства в значительной мере направлялась желанием исправить положение и что его вмешательство, как правило, обеспечивало более эффективное использование ресурсов. Каждое из этих предположений можно поставить под сомнение. Некоторые экономисты сомневаются в том, что государство способно успешно бороться с внешними эффектами или стремится к этому. По словам Леланда Игера, государство само по себе «эталонный сектор, в котором при принятии решений не учитываются все издержки каждого вида деятельности, как, впрочем, и все выгоды»[16].
Нет сомнений, что в прошлом существовали значительные отрицательные внешние эффекты и что вмешательство государства направлялось желанием исправить неудовлетворительную ситуацию. Самые убедительные примеры такого вмешательства – санитарные нормы и правила. Никто не сомневается, что инфекционные болезни порождают внешние издержки. В прошлом они наносили огромный вред, и для улучшения положения разрабатывались и внедрялись государственные санитарные нормы и правила[17]. Примерами борьбы государства с отрицательными внешними эффектами могут служить принятые в последние десятилетия законы о борьбе с загрязнением окружающей среды, а также такие новые органы, как Управление по охране окружающей среды, хотя, с учетом всех издержек и выгод, постановка задач и проведение в жизнь законов о защите окружающей среды ставят много вопросов о действительных намерениях и реальных успехах[18].
Одним словом, как объяснение возникновения Большого Правительства модернизационная гипотеза не лишена определенных достоинств, пусть и немногочисленных. Регулирование промышленной конкуренции, защита окружающей среды и преодоление соответствующих отрицательных внешних эффектов составляют лишь часть того, чем занимаются современные органы государственной власти. Бóльшая часть деятельности государства никак не связана с усложнением экономики, поддержанием конкуренции или внешними эффектами, создаваемыми концентрацией населения в городах[19].
Модернизационная гипотеза мало что объясняет, особенно если взять федеральный уровень, который в ХХ в. рос как на дрожжах.
Общественные блага
Смежная идея, тоже развивающая сюжеты о неисключаемости или о побочных эффектах, связана с общественными благами. На языке экономической теории «общественное благо» не означает благо, поставляемое государством (либо которое должно поставляться государством). Скорее это благо, которому присуще такое свойство, как несостязательность потребления: когда некто потребляет общественное благо, доступность этого блага для всех остальных не уменьшается. Как только общественное благо произведено, его потребление не сопряжено с предельными издержками, потому что в этом случае появление дополнительных потребителей не требует дополнительно жертвовать ценными альтернативами. Самый известный пример – национальная оборона. Когда укрепляется защита от внешней агрессии, благо повышенной безопасности достается в равной степени всем проживающим на защищаемой территории. Повышение моей защищенности не означает, что снизилась защищенность всех остальных[20].
Общественные блага создают проблему: каждый отдельный потребитель заинтересован в том, чтобы уклониться от платы за них, потому что выгода от этих благ принадлежит всем потребителям в равной мере. Каждому хочется «прокатиться зайцем». Частные блага не достаются тому, кто за них не платит, потому что оплатившие могут отказать другим в доступе к купленному ими благу. Однако отказать неплательщикам в пользовании некоторыми из общественных благ оказывается либо невозможно, либо чрезмерно дорого. Когда иностранных врагов от агрессии против США удерживает страх, в стране каждый получает равную защиту, и ситуацию, когда получение блага объединяет всех без исключения, вряд ли можно изменить. Если предоставить производство неисключаемых благ рынку, люди получат мало либо вовсе ничего. Никто не станет платить, так как каждый будет рассчитывать «проехать зайцем», т. е. бесплатно воспользоваться неисключаемым благом, и до его производства дело вообще не дойдет.
Государство в состоянии разрешить патовую ситуацию, создаваемую «проблемой безбилетника». Обложив налогом всех получателей общественного блага или по меньшей мере достаточно многих, оно сможет собрать средства для оплаты этого блага. Но щекотливые вопросы остаются даже после вмешательства государства, потому что не существует четкой и практичной процедуры для определения объема производства общественного блага и пропорций распределения налогового бремени. На практике и то и другое определяется в ходе политического процесса[21].
Гипотеза общественных благ утверждает, что в ХХ в. выросла стоимость производства неисключаемых (т. е. достающихся всем и каждому) общественных благ – главным образом, национальной обороны и технологии, связанной с современными вооружениями. Но поскольку обеспечить производство этих благ может только государство, то в соответственной мере выросло и оно. Это достойный аргумент, особенно в применении к федеральному уровню органов государственной власти, который и занимается вопросами национальной обороны. ХХ в.
был свидетелем чрезвычайной международной нестабильности и враждебности. Две мировые войны, множество международных конфликтов меньшего масштаба и холодная война довели спрос на услуги профессиональных военных до высот, неведомых в XIX в. При этом развитие современных военных технологий сделало национальную безопасность чрезвычайно дорогим благом. Начавшаяся после окончания Второй мировой войны гонка вооружений означала, что невозможно раз и навсегда обеспечить безопасность национальной территории, так как каждый раунд «действие – противодействие» предъявляет более высокие требования к эффективному сдерживанию.
Но при всех ее несомненных достоинствах гипотеза общественных благ объясняет рост государства лишь отчасти. Даже на федеральном уровне бóльшая часть государственных расходов не имеет прямого отношения к задачам национальной обороны. Огромные расходы на пенсии по старости, пособия по безработице, социальное жилье, профессиональное обучение, здравоохранение, школьные завтраки, субсидии фермерам и т. д., и т. п., не говоря о многоглавой гидре регулирования всего на свете, от тканей для детских пижам до фьючерсных контрактов на сырьевые товары, не имеют никакого отношения к задачам национальной обороны или другим общественным благам.
Государство благосостояния
В США создано не просто обширное (large) правительство, а государство благосостояния. Для объяснения этого аспекта роста Большого Правительства можно использовать разновидность модернизационной гипотезы. Экономический рост и сопутствующие социально-экономические преобразования различными, зачастую косвенными путями понизили роль таких частных институтов, как семья, церковь и добровольные объединения, которые прежде были главными поставщиками социальных услуг. Виктор Фукс утверждает, что «плоды рыночной системы – наука, технология, урбанизация, изобилие» – подорвали институты, на которые прежде опирался общественный порядок. «С упадком семьи и религии неспособность рыночной системы удовлетворить эти нужды делается очевидной, и в образовавшийся вакуум устремляется государство». Большое Правительство превращается в «заместителя семьи или церкви, которые прежде помогали людям в периоды экономических или социальных бедствий»[22]. Спору нет, государственные социальные услуги сильно потеснили частные институты. Но Фукс не отвечает на вопрос, как именно это произошло. Хотелось бы знать, кто при этом выигрывает и кто платит, сколько и каким образом.
Подобно Фуксу и многим другим, Вильгельм Рёпке рассматривал современное государство благосостояния как «несомненный ответ на распад общинных связей в течение последнего столетия». Но при этом он признавал, что «сегодняшнее государство благосостояния не просто улучшенный вариант прежних институтов социального страхования и общественного попечительства». Оно превратилось в «инструмент социальной революции», в результате которой «отнимать стало по меньшей мере столь же важно, как и отдавать», так что эта социальная революция «вырождается в абсурдную двустороннюю перекачку денег, когда государство обирает почти всех и платит почти всем, так что в итоге никто не знает, выиграл он в этой игре или проиграл»[23]. Государство благосостояния стало, если не было изначально, государством перераспределения. Государственные меры помощи самым обездоленным слились в мощный поток политики неограниченного перераспределения доходов и богатства между буквально всеми группами, как бедными, так и богатыми.
Политическое перераспределение
Объяснением того, как «в образовавшийся вакуум устремляется государство», преобразуя государство благосостояния в нечто гораздо более всеохватное и всепроникающее, служит гипотеза политического перераспределения. В рамках ее логики государство представляет собой инструмент принудительного перераспределения богатства. При этом зачастую считается, что избиратели хорошо информированы и крайне эгоистичны, а избираемые государственные деятели чутко реагируют на ясные сигналы избирателей. Известно несколько разновидностей этой аргументации.
По версии Алана Мельтцера и Скотта Ричарда, Большое Правительство «возникает в результате разницы между распределением голосов и распределением дохода. Государство расширяется, когда право голоса получают избиратели с доходом ниже медианного или когда рост доходов [населения] дает государству средства для усиленного перераспределения»[24]. Это объяснение не согласуется с историческими фактами. Расширение избирательного права не оказало прямого влияния на рост государства, а наиболее значительный рост полномочий государства приходился на периоды стагнации или падения реальных доходов, во время мировых войн и в разгар Великой депрессии. Более того, предположение, что государство всегда перераспределяет доходы в пользу малоимущих, прямо противоречит фактам, слишком многочисленным и известным, чтобы снова их приводить. Как писал Манкур Олсон, государственные меры по перераспределению в общем случае «воздействуют на распределение доходов не уравнительным, а произвольным образом, и совсем не редкость, когда доходы перераспределяются от малоимущих к более обеспеченным». Многие действия государства «не слишком помогают бедным», а некоторые «в действительности вредят им»[25].
Сэм Пельцман развивает несколько иную версию гипотезы политического перераспределения, согласно которой «государство растет там, где становятся более многочисленными группы, заинтересованные в его росте и способные понять и выразить эту свою заинтересованность». Соответственно исключительным источником роста государства являются требования граждан, а отзывчивость государства принимается как само собой разумеющееся. Пельцман утверждает, что «в последние полстолетия главным источником роста государства в развитых странах было выравнивание различий в уровне доходов значительной части населения», потому что это выравнивание привело к «расширению политической базы, выигрывающей от перераспределения в целом и тем самым являющейся плодотворным источником политической поддержки для расширения соответствующих программ. В то же время эти группы улучшили свою способность воспринимать и выражать свою заинтересованность… [и] этот одновременный рост „способности“ послужил политическим катализатором распространения экономической заинтересованности в перераспределении»[26].
При ближайшем рассмотрении кажущееся изящество модели Пельцмана, сформулированной на языке математики и прошедшей эконометрическую проверку, сходит на нет. Он рассматривает «государственные расходы и налоги как чистое перераспределение» и «предполагает, что объем государственных расходов определяется исключительно давлением большинства избирателей… что политические предпочтения есть прямое отражение эгоизма… и что каждый избиратель хорошо понимает детали предложенной политики и ее последствия для его материального благополучия». В другом варианте модели, якобы более реалистичной, Пельцман слегка ослабляет эти сковывающие условия, допуская, что полностью информирована только одна группа избирателей, тогда как все остальные полностью некомпетентны и либо не участвуют в выборах, либо голосуют случайным образом. Исходя из подобных предположений убедительное объяснение роста государства построить невозможно. Использованные Пельцманом для эконометрической проверки сомнительные данные и вспомогательные допущения не помогут убедить читателя, смущенного чрезвычайно нереалистическими допущениями, заложенными в основание модели[27].
В отличие от модернизационной гипотезы, гипотез общественных благ и государства благосостояния, которые неявным образом предполагают, что государство разрастается автоматически, в силу служения широкому, но меняющемуся «общественному интересу», гипотеза политического перераспределения явным образом рассматривает рост государственных полномочий как результат политических действий. (Политические действия = борьба за использование или использование государственного принуждения для определения того, кто, когда и как получит то или иное.) Такой ракурс должен быть присущ любому реалистичному подходу. Но, как мы только что видели, политика при этом часто предстает в стилизованном, гротескном и нереалистичном виде. При этом обычно предполагается, что масштаб деятельности государства определяют исключительно выборные должностные лица, заботящиеся о переизбрании. А где Верховный суд, конституционные фундаментальные ограничения и консервативное общественное мнение? Какая роль отводится постоянным служащим государственного административного аппарата и независимых регулирующих ведомств?[28]
Предположение о полностью информированном избирателе, разумеется, несостоятельно и вводит в заблуждение. Ближе к истине предположение, что типичный избиратель совершенно не ориентируется в политике. Авторитетный специалист по общественному мнению сообщает, что американцы помнят свой астрологический знак лучше, чем имя своего представителя в конгрессе. Предположить, что политические деятели точно понимают, как именно результат выборов скажется на конкретных политических действиях и соответственно на перераспределении богатства, означает довести до абсурда гипотезу полного знания. Как отмечает Джеймс Бьюкенен, «электоральный процесс предлагает в лучшем случае грубую дисциплинарную узду для тех, кто отходит от предпочтений своих избирателей слишком далеко». Выборы происходят нечасто. Мало кто обладает точными сведениями о сути политических проблем или о деятельности политиков, а многие и не хотят об этом знать. Теоретики общественного выбора, ученые, изучающие политику с использованием методов экономической теории, называют это «рациональным неведением». Рационально это неведение или нет, результат не меняется: «…почти любой политик может, причем в довольно широких пределах, действовать вопреки интересам своих избирателей, не опасаясь вроде бы ожидаемого возмездия»[29].
Вероятнее всего политик будет действовать вразрез с интересами своих избирателей, даже если хотел бы добросовестно им служить. Дело даже не в разнородности интересов избирателей – из-за чего невозможно служить интересам всех или даже, пожалуй, интересам существенного меньшинства, – а в поистине непреодолимой проблеме знания. Политологи чаще экономистов признают эту проблему и подчеркивают «практические трудности, стоящие перед законодателями, которые хотят понять, в чем именно заключаются подлинные интересы их избирателей»[30].
Несовпадение интересов избирателей и действий выборных должностных лиц легко находит подтверждения, причем порой занятным образом. Очаровательным примером может служить бывший конгрессмен, первый руководитель Административно-бюджетного управления президента Рейгана Дэвид Стокман, сделавший печально известное признание: «Я ознакомился с ситуацией и решил действовать самостоятельно, – сообщил он, – и никто так и не узнал, что я голосовал против этих чертовых программ». В том же признавался конгрессмен Пит Макклоски, вспоминая свою первую победу на выборах в конгресс. Когда после выборов был проведен опрос избирателей, чтобы выявить содержание мандата победившего кандидата, оказалось, по словам Макклоски, что «5 % людей голосовали за меня, потому что разделяли мои взгляды; 11 % голосовали за меня, не одобряя моих взглядов, а 84 % вообще не знали, какие там у меня взгляды»[31].
Словом, есть основания согласиться с Йозефом Шумпетером: «Рационально мыслящие, свободно голосующие граждане, осознающие свои (долгосрочные) интересы, и его представитель, действующий согласно этим интересам… – это ли не прекрасный пример детской сказки?»[32] Обычно политическая деятельность протекает в атмосфере неведения, дезинформации, позерства и накаленных эмоций; долгие периоды апатии и маневрирования прерываются краткими эпизодами бешеной активности. При проработке мелких деталей экономической политики избиратели почти не принимаются в расчет. Решающее значение имеет постоянно оцениваемый политический потенциал лидеров, занимающих стратегическое положение, и элиты, имеющей четко очерченные интересы. Более того, идеологические мотивы могут завести ход политических событий куда дальше, нежели признают сторонники гипотезы политического перераспределения.
Идеология
Многие ученые объясняют рост государственных полномочий некой формой гипотезы идеологии. Идея состоит в том, что истинные приверженцы некого образа Хорошего Общества добивались расширения полномочий государства для преобразования общества в соответствии со своим идеалом и добились успеха. Сторонники этой гипотезы имеют самых невероятных союзников. Среди них Джон Мейнард Кейнс, святой покровитель современного либерализма[33], утверждавший, что «идеи экономистов и политических мыслителей… имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром… Рано или поздно, во благо или во зло, опасны именно идеи, а не корыстные интересы»[34]. В силу идей твердо верит и Ф. Хайек, вероятно, самый знаменитый правый интеллектуал. Как на конечную причину отказа от рыночной системы он указал на «определенные новые цели экономической политики», и в частности на убеждение, что государство должно «определять материальное положение отдельных людей или проводить в жизнь распределительную, или „социальную“ справедливость», для чего «все ресурсы должна распределять центральная власть»[35]. Таким образом, Кейнс, выступавший за «всеобъемлющее обобществление инвестиций», и Хайек, посвятивший долгую профессиональную жизнь борьбе со всеми разновидностями социализма, соглашались, что рост государства, в конечном счете, зависит от идей, или, точнее, от идеологий[36].
Идеология, которую порой расплывчато именуют «общественным мнением», должна была играть важную роль, по меньшей мере решающую потворствующую роль. Как писал Ортега-и-Гассет и как признавали многие другие, «ни одна власть в мире никогда не покоилась ни на чем, кроме общественного мнения»[37]. Если бы люди в целом были в принципе против большого правительства, отказ от свободных рынков в последние семьдесят лет не состоялся бы. Легко показать, что в двадцатом веке общественное мнение сильно сдвинулось влево. Изучив данные различных опросов, Герберт Макклоски и Джон Заллер недавно подтвердили, что «за последние пятьдесят или семьдесят пять лет отношение американцев к рыночной свободе развернулось буквально на сто восемьдесят градусов»[38].
Идеологию нельзя пощупать и трудно измерить, и потому рассуждать о ее влиянии следует осторожно. Впрочем, доказать можно многое, особенно если иметь в виду, что лидеры общественного мнения умеют управлять убеждениями масс. Общественное мнение, как отметил один политолог, «зачастую зыбко, непостоянно и непоследовательно… В той мере, в какой публика в курсе проблем, она склонна цепляться за сюжеты и темы, которые продвигают и популяризуют политики и средства массовой информации». Взгляды Уолтера Липпмана или Уолтера Кронкайта, не говоря о Франклине Рузвельте, влияют на состояние общественного мнения больше, чем взгляды миллионов людей, менее уважаемых и не имеющих столь же видных позиций в обществе – вспомните, что Рональд Рейган, несмотря на хромающую логику и сбивчивость, имел репутацию «великого коммуникатора». «В условиях массовой демократии, – писал Рёпке, – политика должна выдерживать… давление… массовых мнений, массовых эмоций и массовых страстей, – а ими управляют, их возбуждают и эксплуатируют группы давления, демагоги и партии»[39]. Если взять за основу идеи, распространяемые имеющими стратегические высоты элитами и влиятельными лицами, получим надежную основу для обобщающих суждений о преобладающих идеологиях. (Что заставляет лидеров общественного мнения время от времени совершать идеологические виражи, это отдельный вопрос.) Но даже если господствующие идеологии идентифицированы, следует помнить, что законодательное собрание «не фабрика, которая механически преобразует мнение в параграфы законов»[40]. Разрыв между мнениями или идеологиями избирателей и действиями их политических представителей куда значительнее разрыва между экономическими интересами избирателей и действиями их политических представителей. Разобраться в этом означает понять механизм современной представительной демократии. Отчасти, по-видимому, причина в том, что некоторые должностные лица пытаются действовать во имя «общественного интереса», который можно определить как «широкие, всеохватные представления о том, что именно соответствует наилучшим интересам поддерживающих их социальных групп или общества в целом… нечто иное, чем суммирование, обработка или опосредование общественных интересов»[41]. Другой причиной этого разрыва может стать не что иное, как простая продажность должностных лиц, готовых служить тому, кто больше платит. Можно только гадать о том, являются ли вспыхивающие время от времени коррупционные скандалы лишь верхушкой айсберга. Некоторые ученые считают, что прямой подкуп представляет собой «существенный механизм» определения деятельности представителей правительства. Другие сомневаются в важности прямого подкупа, главным образом потому что «куда проще и законнее подкупать политиков косвенно»[42].
В любом случае идеология не просто одна из независимых переменных социально-политического процесса. Именно это имел в виду Шумпетер, когда заметил, что «ценностные суждения об эффективности капитализма, положительные или отрицательные, не представляют интереса. Дело в том, что человечество не свободно выбирать… Экономические и социальные процессы обладают собственными движущими силами, и последующие ситуации принуждают индивидов и социальные группы вести себя определенным образом, хотят они того или нет, – вынуждают, разумеется, не лишая их свободы выбора, а формируя мировосприятие, ответственное за этот выбор, и сужая перечень возможностей, из которых этот выбор осуществляется»[43]. Кто-то возразит, что Шумпетер заходит слишком далеко, что это неоправданный детерминизм, не оставляющий места для идеологии как независимой переменной[44]. Тем не менее в своей провокационной формулировке социологии знания в связи с вопросом о росте правительства и государственного вмешательства Шумпетер выявил ключевое звено проблемы и поставил задачу, на которую так или иначе необходимо ответить.
Кризис
Осталось рассмотреть последнее объяснение роста правительства, представленное здесь гипотезой кризиса. По этой гипотезе в чрезвычайных условиях нужды нации могут потребовать расширения государственного регулирования либо полного вытеснения рыночной экономики. Сторонники этой гипотезы предполагают, что чрезвычайная ситуация заметно повышает и спрос на государственное регулирование, и его предложение. «Во время экономического кризиса, – отметил Калвин Гувер, – когда вероятно радикальное увеличение полномочий правительства… невозможно осмысленно выносить на голосование вопрос о том, желательно ли в принципе расширение полномочий государства. Куда вероятнее настойчивое требование принятия некого рода решительных мер и безразличие к долговременным последствиям этих мер»[45].
В американской истории самые значительные кризисы проявлялись в форме войны и в форме делового спада. С началом войны правительство развивало бурную военную деятельность, что тут же приводило к ужиманию рыночной системы размещения ресурсов под давлением растущих налогов, государственных расходов и регулирования оставшихся гражданских секторов экономики. Чем война тяжелее и продолжительнее, тем больший ущерб претерпевает рыночное хозяйство. Современная «тотальная» война, в которой, по общему мнению, речь идет о выживании страны, понуждает ослабить самые надежные барьеры, – конституционные ограничения и отрицательную реакцию общественного мнения, – которые в обычные времена препятствуют росту правительства.
В условиях сурового делового спада многие приходят к убеждению, что возможности эффективного функционирования рыночной экономики исчерпаны и что дела пойдут лучше, если правительство займется более всесторонним планированием или регулированием хозяйства. Вследствие этого расширяется поддержка политических предложений, направленных на расширение правительственных полномочий и круга деятельности. В период депрессии общественное мнение – хоть и в меньшей степени, чем во время войны, – тоже становится благосклоннее к расширению государственного вмешательства, что находит отражение в требованиях, одобрении или, по меньшей мере, в снисходительном отношении к толкованию Конституции в соответствующем духе. (Заметьте: стоит в период кризиса ослабить конституционные ограничения, как возникает правовой прецедент, открывающий правительству возможность экспансии и в последующие, некризисные периоды, особенно в те, которые под благовидным предлогом описываются как кризис.)
Некоторые ученые отвергли кризисную гипотезу, потому что сама по себе она не объясняет весь рост правительства; по сути дела гипотезу отвергли, потому что факты свидетельствуют о том, что кризис является достаточным, а не необходимым условием расширения правительственной деятельности. Но если применять этот критерий, придется отбросить и остальные гипотезы. Порой кризисную гипотезу отвергали из-за того, что рост правительства, измеряемый такими количественными показателями, как рост государственных расходов или уровень безработицы, плохо коррелировал с хронологией кризисных эпизодов. При этом простодушно не учитывался тот факт, что меры по расширению круга правительственной деятельности в ответ на кризис могли приниматься с определенной задержкой. Некоторые ученые отвергли эту гипотезу, потому что она не объясняет рост правительства во всех других странах, а это все равно что объявить непригодными любые объяснения, не обладающие универсальной значимостью.
На деле экспансия государственного вмешательства исторически пришлась на ряд драматических ситуаций, прежде всего на мировые войны и Великую депрессию. Главное достоинство кризисной гипотезы, выделяющее ее из прочих, в том, что ее самым наглядным образом подкрепляет исторический опыт. Но нельзя ограничиваться простой констатацией этого факта. Необходимо понять, почему, расширяясь в период кризиса, круг правительственной деятельности не возвращается к докризисному состоянию потом, после восстановления нормальной социально-экономической ситуации. И еще нужно объяснить, почему кризисы приводили к расширению правительственных полномочий и круга деятельности в ХХ веке, но не в XIX, которому чрезвычайные ситуации знакомы не хуже. Чтобы объяснить эти различия, требуется в дополнение к кризисной гипотезе привлечь и другие.
10
Calvin B. Hoover, The Economy, Liberty, and the State (New York: Twentieth Century Fund, 1959), p. 373. Ему вторит Мортон Келлер, заявивший недавно: «Сложная и постоянно меняющаяся экономика нуждается в плотной и гибкой системе регулирования». См.: Morton Keller, „The Pluralist State: American Economic Regulation In Comparative Perspective, 1900–1930,“ in Regulation in Perspective: Historical Essays, ed. Thomas K. Mc-Craw (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981), p. 94. Среди экономистов модернизационная гипотеза часто выступает в форме закона Вагнера. Критику этой мутной идеи см.: Alan T. Peacock and Jack Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1961), pp. 16–20, 24–28.
11
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007; Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 53–72, 68–69. См. также: Sowell, Т. Knowledge and Decisions. New York: Basic Books, 1980, р. 214–223; Kirzner, I. Economic Planning and the Knowledge Problem //Cato Journal 4. Fall 1984, p. 407–418. Ср.: Hurwicz, L. Economic Planning and the Knowledge Problem: A Comment. Ibid. P 419–425.
12
Этот тезис выдвинул Дж. Кеннет Гэлбрейт: Galbraith, John Kenneth. American Capitalism: The Concept of Countervailing Power. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin, 1956. P. 135–153. См.: Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. Т. 27. С. 312.
13
Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия // Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. Гл. VIII; Israel M. Kirzner, Competition and Entrepreneurship (Chicago: University of Chicago Press, 1973), esp. pp. 125–131 [Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство. Челябинск: Социум, 2011.]. См. также: Thomas K. McCraw, „Rethinking the Trust Question,“ in Regulation in Perspective, ed. McCraw, pp. 1—24. Дж. Р. Т. Хьюз (J. R. T. Hughes) в разговоре со мной предположил, что даже если крупный бизнес не представлял собой настоящей угрозы для общества, люди могли (по ошибке) бояться его и искали помощи государства.
14
George J. Stigler, The Citizen and the State: Essays on Regulation (Chicago: University of Chicago Press, 1975), p. 183. Обзор работ, посвященных анализу программ регулирования, см.: Thomas K. McCraw, „Regulation in America: A Review Article,“ Business History Review 49 (Summer 1975): 159–183; см. также: Bernard H. Siegan, Economic Liberties and the Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1980), pp. 283–303. В работе T. K. Mc-Craw, „Rethinking the Trust Question,“ автор делает вывод (с. 55), что «экономическое регулирование, как правило, было не союзником, а врагом конкуренции».
15
McCraw, „Regulation in America,“ p. 171.
16
Leland B. Yeager, „Is There a Bias Toward Overregulation?“ in Rights and Regulation: Ethical, Political, and Economic Issues, ed. Tibor R. Machan and M. Bruce Johnson (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1983), p. 125.
17
Edward Meeker, „The Social Rate of Return on Investment in Public Health, 1880–1910,“ Journal of Economic History 34 (June 1974): 392–431; Robert Higgs, The Transformation of the American Economy, 1865–1914: An Essay in Interpretation (New York: Wiley, 1971), pp. 67–72; idem, „Cycles and Trends of Mortality in 18 Large American Cities, 1871–1900,“ Explorations in Economic History 16 (Oct. 1979): 396–398.
18
Murray L. Weidenbaum, Business, Government, and the Public, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981), pp. 92— 113; Douglas F. Greer, Business, Government, and Society (New York: Macmillan, 1983), pp. 463–489.
19
Thomas E. Borcherding, „The Sources of Growth of Public Expenditures in the United States, 1902–1970,“ in Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth, ed. Thomas E. Borcherding (Durham, N.C.: Duke University Press, 1977), p. 53; Willliam A. Niskanen, „The Growth of Government,“ Cato Policy Report 7 (July/Aug. 1985): 8—10; Edgar K. Browning and Jacquelene M. Browning, Public Finance and the Price System, 2nd ed. (New York: Macmillan, 1983), pp. 93, 98. См. также источники, приводимые выше в прим. 3, особенно «полезные пособия».
20
Национальная оборона часто служит примером, поясняющим концепцию общественного блага, и потому стоит заметить, что «оборонные расходы являются каналом распределения больших объемов частных благ, что нередко затуманивает вопросы относительно обороны как общественного блага… Величина оборонных расходов не связана напрямую с уровнем обороноспособности. Но поскольку оборонные расходы служат источником частных выгод, всегда будет оказываться сильное давление в пользу их повышения» (LeLoup, Budgetary Politics, pp. 253, 255). Милтон и Роза Фридманы отметили, что «железный треугольник» – в данном случае образуемый Пентагоном, его подрядчиками и соответствующими конгрессменами, – «в военной области столь же могуществен, как и в гражданской» (Milton Friedman and Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1984), p. 78).
21
Browning and Browning, Public Finance, pp. 29–34, 42–44, 49–50; Joseph P. Kalt, „Public Goods and the Theory of Government,“ Cato Journal 1 (Fall 1981): 565–584; Russell D. Roberts, „A Taxonomy of Public Provision,“ Public Choice 47 (1985): 267–303. Ср.: E. C. Pasour, Jr., „The Free Rider as a Basis for Government Intervention,“ Journal of Libertarian Studies 5 (Fall 1981): 453–464.
22
Victor R. Fuchs, „The Economics of Health in a Post-Industrial Society,“ Public Interest (Summer 1979): 19, 13. Интересный подход к вопросу см.: Robert Nisbet, Twilight of Authority (New York: Oxford University Press, 1975), esp. pp. 230–287.
23
Wilhelm Röpke, A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market, trans. Elizabeth Henderson (Chicago: Henry Regnery, 1971), pp. 156, 164–165. См. также: Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagfaltion, and Social Rigidities (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1982), p. 174. [См.: Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. Новосибирск: ЭКОР, 1998.]
24
Allan H. Meltzer and Scott F. Richard, „Why Government Grows (and Grows) in a Democracy,“ Public Interest (Summer 1978): 116. См.: Idem., „A Rational Theory of the Size of Government,“ Journal of Political Economy 89 (Oct. 1981): 914–927. В последней статье размер государства измеряется долей перераспределяемых доходов. Государственная политика влияет на перераспределение как прямо, так и косвенно, и потому этот показатель не пригоден для эмпирической проверки гипотезы. В своей следующей статье Мельтцер и Ричард проигнорировали эту проблему, что делает их результаты неубедительными. См.: „Tests of a Rational Theory of the Size of Government,“ Public Choice 41 (1983): 403–418.
25
Olson, Rise and Decline, p. 174. [См.: Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. Новосибирск: ЭКОР, 1998.]
26
Sam Peltzman, „The Growth of Government,“ Journal of Law and Economics 23 (Oct. 1980): 285, курсив в оригинале.
27
Ibid., pp. 221–223, 233–234. Политолог Моррис Фиорина весьма уместно отметил, что «большинство экономистов неплохо знакомы со статистическими методами и могут выдать анализ, имеющий все признаки тщательности и изощренности, но… из-за незнания предмета их модели опираются на наивные предположения. В эмпирических исследованиях в области теории общественного выбора представление ключевых теоретических переменных зачастую базируется на чудовищных показателях». См.: Fiorina, „Comments,“ in Collective Decision Making: Applications from Public Choice Theory, ed. Clifford S. Russell (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979), p. 48. Пельцмана это не проняло, и недавно он предложил еще один образец того, что раскритиковал Фиорина: „An Economic Interpretation of the History of Congressional Voting in the Twentieth Century,“ American Economic Review 15 (Sept. 1985): 656–675.
28
О Верховном суде см.: Siegan, Economic Liberties, а также: Paul L. Murphy, The Constitution in Crisis Times, 1918–1969 (New York: Harper Torchbooks, 1972). О консервативном (и всяком ином) общественном мнении см. ниже, главы 3 и 4 и приводимые там источники. О бюрократии см.: Browning and Browning, Public Finance, pp. 72 75; Dye and Zeigler, Irony of Democracy, pp. 323–324, 335; Samuel P. Hays, „Political Choice in Regulatory Administration,“ in Regulation in Perspective, ed. McCraw, pp. 124–154; Francis E. Rourke, Bureaucracy, Politics, and Public Policy, 2nd ed. (Boston: Little, Brown, 1976), pp. 179–184 и в других местах. Разумная, хоть и не до конца проработанная точка зрения, что бюрократия куда более покорна законодательной власти, чем это может показаться, развита в работе Barry R. Weingast, „The Congressional-Bureaucratic System: A Principal Agent Perspective (with applications to the SEC),“ Public Choice 44(4984): 147–191.
29
W. Lance Bennett, Public Opinion in American Politics (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980), pp. 43–45, 122–123, 350, 384–390 (quotation from p. 44); James M. Buchanan, „Why Does Government Grow?“ in Budgets and Bureaucrats, ed. Borcherding, p. 13. См. также: James M. Buchanan, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan (Chicago: University of Chicago Press, 1975), pp. 156–161; Browning and Browning, Public Finance, pp. 54–72; Alt and Chrystal, Political Economics, pp. 154, 155, 161; Siegan, Economic Liberties and the Constitution, pp. 91, 265–282; Olson, Rise and Decline, p. 52 [см.: Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. Новосибирск: ЭКОР, 1998]; Nordlinger, Autonomy, pp. 87, 96, 209; Graham K. Wilson, Interest Groups, pp. 110, 117, 125; Dye and Zeigler, Irony of Democracy, pp. 193, 196, 362, 364, 367; Brian Barry, Sociologists, Economists and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1978), pp. 127, 135; Joseph D. Reid, Jr., „Understanding Political Events in the New Economic History,“ Journal of Economic History 37 (June 1977): 308, 313–314; Leland B. Yeager, „Rights, Contract, and Utility in Policy Espousal,“ Cato Journal 5 (Spring/Summer 1985): pp. 284–285.
30
Wilson, Interest Groups, p. 117 (also pp. 110, 125). Примером типичного подхода экономистов может служить недавняя работа Гэри Беккера, в которой предполагается, что «политиков и бюрократов нанимают для содействия коллективным интересам групп давления, которые увольняют их или расстаются с ними в ходе выборов или процедур импичмента, если те слишком далеко отходят от их интересов». См.: Gary Becker, „A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence,“ Quarterly Journal of Economics 98 (Aug. 1983): 396. Подразумевает ли это утверждение возможность уволить чиновника, служащего в государственном административном аппарате, или импичмент члена Верховного суда? Если так, то ряд неразрешимых проблем выносится за скобки; если нет, то модель не учитывает группу важных действующих лиц.
31
William Greider, „The Education of David Stockman,“ Atlantic Monthly 248 (Dec. 1981): 30; „Pete McCloskey: Trying to Run on the Issues,“ Wall Street Journal, June 3, 1982, p. 22.
32
Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford University Press, 1954), p. 429. [Шумпетер Й. А. История экономического анализа. В 3-х т. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 2. С. 564–565.]
33
В политическом спектре США термин «либерализм» обозначает «комплекс идей и политических постулатов, во всех отношениях противоположных тому, что под либерализмом понимали предыдущие поколения. Самозваный американский либерализм стремится к всемогуществу государства, является твердым противником свободного предпринимательства и отстаивает централизованное всестороннее планирование, т. е. социализм. Любая мера, направленная на конфискацию имущества у тех, кто располагает большим, чем средний человек, или на ограничение прав владельцев собственности, рассматривается как либеральная и прогрессивная. Практически неограниченная свобода применения власти предоставлена правительственным органам, решения которых не принадлежат судебному пересмотру» (Мизес Л. фон. Либерализм. Челябинск: Социум, 2007. С. vi; из предисловия к американскому изданию 1962 г.). Нужно добавить, что слово «либеральный» не играло заметной роли в американском политическом лексиконе до 1930-х годов, когда Г. Гувер и Ф. Рузвельт вдруг одновременно начали утверждать, что являются истинными либералами. Подробности борьбы за слово «либерал» описаны в книге Рональда Ротунды «Либерализм как слово и символ» (Rotunda R. D. The Politics of Language: Liberalism as Word and Symbol. Iowa City: University of Iowa Press, 1986), русское издание которой выйдет в издательстве «Социум» в 2011 г. Люди, стоящие на позициях, максимально близких к классическому либерализму в европейском смысле этого слова, в США называются либертарианцами. См.: Боуз Д. Либертарианство: История, принципы и политика. Челябинск: Социум, 2004.
34
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 340.
35
Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), pp. 231–232.
36
Фридман, занимавший в политическом спектре положение между Кейнсом и Хайеком, также объяснял рост правительства изменением идеологии. (Friedman М., Tyranny of the Status Quo, pp. 37–38). Об идеологии в связи с изменением роли государства см. ниже главы 3 и 4 и приведенные там источники.
37
Ортега-и-Гассет, Х. «Восстание масс», гл. XIV. См. также Knight, Freedom and Reform, pp. 235, 414.
38
Herbert McClosky and John Zaller, The American Ethos: Public Attitudes toward Capitalism and Democracy (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984), p. 159.
39
Wilson, Interest Groups, p. 11; Röpke, A Humane Economy, p. 142. Ортега-и-Гассет полагал, что «у большинства людей мнения нет, мнение надо дать им, как смазочное масло в машину». Кроме того, «при всеобщем голосовании массы не решали, а присоединялись к решению того или другого меньшинства» («Восстание масс»). См. также: Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия // Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. С. 659–660; Becker, „Competition among Pressure Groups,“ p. 392; Bennett, Public Opinion, pp. 230–232, 240–241, 306, 311; McClosky and Zaller, American Ethos, pp. 11–12, 152,234.
40
William Letwin, Law and Economic Policy in America: The Evolution of the Sherman Antitrust Act (Chicago: University of Chicago Presss, 1965), p. 54. Томас Дай ссылается на исследование Уоррена Е. Миллера и Доналда Стоукса, которые «обнаружили очень низкую корреляцию между тем, как голосовали конгрессмены, и позициями их избирателей по вопросам социального обеспечения, и еще более низкую корреляцию по вопросам внешней политики. Только в вопросах, связанных с гражданскими правами, конгрессмены вроде бы голосуют в соответствии с мнением большинства своих избирателей». Understanding Public Policy, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1975), p. 309. Противоположные выводы о связи между идеологией и голосованием в Конгрессе см.: Sam Peltzman, „Constituent Interest and Congressional Voting,“ Journal of Law and Economics 27 (April 1984): 181–210, а также Keith T. Poole and R. Steven Daniels, „Ideology, Party, and Voting in the U.S. Congress, 1959–1980,“ American Political Science Review 79 (June 1985): 373–399. Несоответствие между действиями законодателей и предпочтениями их избирателей может быть отражением того, что теоретики демократических процедур именуют «феноменом периодического большинства». В этом случае «не имеет значения, какой выбор сделан, потому что большинство предпочитает что-то другое». Обстоятельное объяснение этого феномена см. в Browning and Browning, Public Finance, pp. 62–65 (quotation from p. 62).
41
Nordlinger, Autonomy, p. 35. См. также: Joseph P. Kalt and M. A. Zupan, „Capture and Ideology in the Economic Theory of Politics,“ American Economic Review 74 (June 1984): 279–300.
42
Alvin W. Gouldner, The Dialectic of Ideology and Technology: The Origins, Grammar, and Future of Ideology (New York: Oxford University Press, 1976), pp. 234–235; Peter Navarro, The Policy Game: How Special Interests and Ideologues Are Stealing America (New York: Wiley, 1984), p. 100. Ср.: John Kenneth Galbraith, The Anatomy of Power (Boston: Houghton Mifflin, 1983), pp. 48–49, 84–85.
43
Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия // Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. С. 510.
44
Hendrik Wilm Lambers, „The Vision,“ in Schumpeter’s Vision: Capitalism, Socialism and Democracy after 40 years, ed. Arnold Heertje (New York: Praeger, 1981), p. 120; Herbert K. Zassenhaus, „Capitalism, Socialism and Democracy: the ‘Vision’ and the ‘Theories,’“ ibid., pp. 189–191; K. R. Popper, The Open Society and Its Enemies (New York: Harper Torchbooks, 1963), II, pp. 212–223.
45
Hoover, The Economy, Liberty, and the State, pp. 326–327. См. также: Peacock and Wiseman, Growth of Public Expenditures, pp. 27–28, 66–67, и в других местах; Knight, Freedom and Reform, p. 404; Friedman and Friedman, Tyranny of the Status Quo, p. 8; Robert Higgs, „The Effect of National Emergency,“ Pathfinder 4 (April 1982): 1–2; Peter Temin, „Government Actions in Times of Crisis: Lessons from the History of Drug Regulation,“ Journal of Social History 18 (Spring 1985): 433–438; Stephen Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877–1920 (New York: Cambridge University Press, 1982), p. 10. Превосходное изложение кризисной гипотезы политологом, акцентирующим правительственную сторону дела, но при этом не игнорирующим экономические моменты см.: Clinton L. Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1948). Впечатляющую эконометрическую работу, поддерживающую кризисную гипотезу, недавно представили: Karen A. Rasler and William R. Thompson, „War Making and State Making: Governmental Expenditures, Tax Revenues, and Global Wars,“ American Political Science Review 79 (June 1985): 491–507.