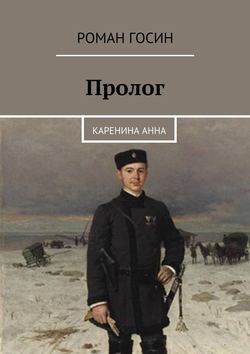Читать книгу Пролог. Каренина Анна - Роман Госин - Страница 7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 4
ОглавлениеГраф Алексей Кириллович Вронский чувствовал себя тяжелобольным. Ныне в нём трудно было узнать того донжуанствующего бонвивана, живущего в собственное удовольствие богато и беспечно, кутилу, весельчака, всегда нарядного, щеголеватого и подтянутого. Его измучили собственные страсти: охота за замужней женщиной, любовь, остывшая из-за привязанности Анны к своему сыну, рождение внебрачной дочери, её губительная зависимость от морфия. Иногда граф пытался себя оправдывать. «А ведь, собственно говоря, – думал он в подобных случаях, – Каренина Анна отдалась мне очень быстро. Уж не было ли лжи в стремлении избегать меня, которое я замечал в ней сначала, и исчезнувшее от одного моего слова? Уж не свела ли меня судьба с одной из женщин, каких много? Да, все они начинают с этого: делают вид, что убегают, чтобы мы преследовали их. Даже лани поступают так. Это инстинкт самки».
Говорят, что Дамокл видел над своей головой меч. Вот так и над людьми беспечными словно нависает нечто такое, что беспрестанно кричит им: «Продолжай, продолжай, я держусь на волоске!». Вронский всё-таки был искренне, без доли лицемерия влюблён и готов был жертвовать собственной карьерой. Он отказался от высокой должности свитского флигель-адъютанта. А должность могла сопровождаться присвоением генеральского, а вслед за ним, возможно, и следующего звания.
Теперь, после мучительной двухлетней связи с Карениной, Вронский выглядел отчаявшимся, постаревшим, застывшим. Глаза его больше не блестели в предвкушении жизненных благ, они были полны страдания. Лицо будто бы окаменело.
Раздумывая о дуэли, он вспомнил свою последнюю встречу с баронессой Шильтон. Её он знал давно, ещё до того, как увидел на вокзале в Москве Каренину. Познакомила Алексея Кирилловича с баронессой его двоюродная сестра, княгиня Бетси Тверская. Произошло это в гостинице обрусевшего француза Карла Дюссо, где граф Вронский всегда останавливался, приезжая в Москву. Гостиница открылась в 60-х годах XIX века на углу Театрального проезда и Неглинной улицы. В этом здании был устроен оптический театр «Космограмма» господина Иозефа Полло. Там можно было увидеть световые пейзажные и другие живописные полотна.
У Карла Дюссо останавливались многие знаменитости своего времени. Среди них был, например, Фёдор Михайлович Достоевский. Сначала гостиница ему не понравилась. В жару номер его «походил на русскую печку, когда начнут в неё сажать хлебы», и, следовательно, работать там было невозможно. Но уже на следующий год писатель поселился у Дюссо с женой. Здесь он вёл свой дневник, который издавался ежемесячно в виде журнала «Дневник писателя Достоевского». Фёдор Михайлович писал заметки на животрепещущие темы, в том числе и о Карениной Анне, Вронском, графине Лидии Ивановне, княгине Бетси и других представителях высшего света. Писал он и о Балканских событиях, о генерале Черняеве и генерале Скобелеве, умершем в гостинице Дюссо при загадочных обстоятельствах. У героя Балканской войны официально был зарегистрирован паралич сердца, но по Москве ходили упорные слухи о насильственной смерти путём отравления. Скобелев был слишком прямодушен и конфликтовал со ставкой. Одни предполагали, что его отравили агенты иностранных государств или масоны, другие считали это политическим убийством. И до сих пор его смерть остаётся тайной за семью печатями.
У Дюссо Стива Облонский нашёл Каренина. Подойдя к нему, он поздоровался:
– Давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу на доске «Каренин», а мне и в голову не пришло, что это ты! – говорил Степан Аркадьич. – А то я бы зашёл.
«На доске» означало, что всех постояльцев выписывали на меловую доску при входе. Такое нарушение конфиденциальности иногда очень сильно мешало им. Зато многие любили заходить к Дюссо в буфет, а заодно смотрели, не приехал ли какой-нибудь их знакомый.
Княгиня Бетси Тверская и баронесса Полина Шильтон, будучи в Москве, прошлись по магазинам Пассажа. Они зашли в буфет гостиницы Карла Дюссо выпить кофе и поболтать о покупках. На «доске» Бетси увидела фамилию своего двоюродного брата, графа Вронского. А тут он и сам явился, и тоже после покупок. С тех пор они встречались в разных местах не единожды.
Баронесса Шильтон была одной из персон короткого списка российских баронесс. По отцовской линии она происходила из древнего остзейского рода Шильтон. Шведский генерал-майор от кавалерии, лифляндский ландрат Иоанн-Эбергардт фон Шильтон, был возведён с нисходящим его потомством в баронское достоинство королевства Шведского. В ходе Северной войны, завоевания крепости и морского порта Ревель и учреждения Ревельской губернии его потомки по поступлении в российское подданство были именованы баронами. Их записали в пятую часть Родословной книги Российского государства. Первый российский барон, подполковник барон Иван Иванович Шильтон, жена его Эмма (в девичестве Эмма Мерле Паткуль), дочь губернатора Ревеля и их дети стали основателями российской ветви баронов Шильтон.
Отец баронессы Полины Николаевны Шильтон был адмиралом российского флота. Он женился на Надежде Веригиной после неожиданной смерти её мужа, барона Майендорфа. В этом браке родилась их единственная дочь – Полина Николаевна Шильтон. С именем матери Полины Николаевны Шильтон связана история замка в подмосковном имении Полушкино. В детстве она увлекалась рыцарскими романами. Любящий отец, князь Всеволод Романович Трубецкой, построил для неё деревянный замок в миниатюре на берегу небольшого пруда. Он стал любимым местом Надежды Александровны, но в то время это была лишь детская игрушка, а не полноценный барский дом.
Поскольку Трубецкой являлся доверенным лицом императора, его послали к молодой королеве Виктории. Он должен был доставить важные бумаги в Лондон. На обратном пути Трубецкой уронил с корабля в море портфель с секретными документами. Князь, бросившись за ним в воду, не утонул, но сильно простудился, а вскоре по возвращении в Петербург скончался.
Надежда Александровна вышла замуж за богатого барона Майендорфа. Детей у них не было, Бог не послал. Барон любил свою супругу, всячески её баловал и построил для неё настоящий замок вместо деревянного. Однако после окончания строительства муж Надежды Александровны неожиданно погиб от удара молнии во время крёстного хода у Полушкинской поместной церкви. Кроме него никто не пострадал. По округе и Москве поползли слухи, достигшие Петербурга, о том, что в смерти барона Майендорфа повинны химеры. Кто-то привёз ему из Парижа две статуэтки, изображавшие химер собора Нотр-Дам-де-Пари. Статуэтки химер оказались в кабинете барона. Надежде Александровне они никогда не нравились, и одну из статуэток она успела выбросить. Тогда барон Майендорф указал жене на то, что это произведения искусства, и отругал её за излишнюю суеверность и нелепые предрассудки. Химеры, готические видения дьявольской свиты, навсегда остались для его жены символом тёмных миров. Присутствие нечистой силы в тогдашней Москве почувствовала не только она.
Замок баронессы Майендорф в подмосковном имении Полушкино был возведён неподалёку от Архангельской усадьбы и дворца в итальянском стиле князя Николая Борисовича Юсупова. Стоял он на холме, а своим фасадом напоминал немецкие замки, словно перенесённые сюда с берегов Рейна. Замок окружали высокая кирпичная ограда и въездные башни. С них на прибывающих гостей смотрели восемь химер, по четыре с каждой стороны.
Когда Надежда Александровна вышла замуж за барона-адмирала Николая Петровича Шильтона, она попросила его заказать для въездных ворот две модели парусных фрегатов. В год замены химер на фрегаты в этом замке у пары родилась дочь – баронесса Полина Николаевна Шильтон.
Как и подобает истинному аристократу, барон коллекционировал оружие, картины, собрал превосходную библиотеку. В нижнем большом холле замка на кессонном потолке висел великолепный гобелен ручной работы – «Великий потоп». Размером он был примерно в сорок квадратных метров. Колорит гобелена был выдержан в холодных коричнево-голубых тонах, а само полотно изображало людей, в ужасе пытающихся спастись от разбушевавшейся стихии. Выбор именно этого гобелена для гостиной был странным, ведь работа навевала мрачные мысли. Но родившейся в этом замке баронессе Полине Николаевне Шильтон он нравился, поскольку этот библейский сюжет пробуждал в ней мысли об абсурдности и катастрофичности мира, бесприютности и одиночестве человека в нём.
Внешний вид баронессы Шильтон никак не сочетался с её духовной жизнью. У неё была фигура богини, а местные острословы называли её «affe popo», что в переводе означает «вертихвостка». Прозвище она получила за рассказы своим многочисленным гостям, включая великих князей, о том, что каждое зимнее утро, живя вдали от промозглого Петербурга, она принимает ванну с лепестками роз, выращиваемых в оранжерее замка. Цель рассказов была очень проста – Полина Николаевна стремилась показать размеры своего состояния. Полотнянный завод, дворец в Стрельне, а также поместье с замком достались ей по наследству. Баронесса Шильтон купила французский пароход «Портюгаль» для устройства в нём госпитального судна. На многое у неё были свои взгляды, в том числе и на отношения между замужней женщиной и мужчинами. Полина Николаевна считала, что счастливый и спокойный брак – это слишком редкое явление для жизни двух людей под одной крышей. Её родословная и богатство делали баронессу абсолютно независимой от мнения света. Она не обращала никакого внимания на общепринятое мнение, в том числе и по поводу своей личной жизни.