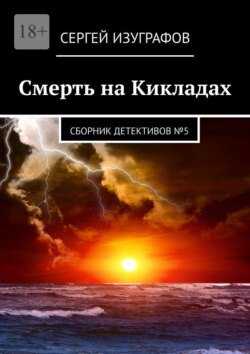Читать книгу Смерть на Кикладах. Сборник детективов №5 - Сергей Изуграфов - Страница 8
ГИТАРИСТ НА СЕЗОН
Часть пятая
ОглавлениеГитара снимает покровы с тайн
человеческой души.
В. К. Родионов
«Александр, добрый день!
Наш Фестиваль закончился, призы вручены, места поделены, мастер-классы проведены, все эмоции постепенно улеглись, – можно перевести дух! Слава богу! Все прошло как нельзя лучше. Два дня после Фестиваля мы приходили в себя, подводили итоги, проводили разбор полетов в Оргкомитете, не без этого, потом еще и торжественный банкет для именитых гостей и спонсоров… Валюсь буквально с ног, усталая, но очень довольная! Вот сегодня утром я добралась до компьютера и, наконец, могу вам выслать обещанные материалы, касающиеся Макарова и Мерца. Вы уж простите меня за задержку! Очень я переживала за своих учеников, просто очень! Вы, наверное, заметили… Но муж снова оказался прав: они выступили просто замечательно! Волшебно выступили! Я так рада за своих мальчишек! Они у меня очень трудолюбивые и страшно талантливые, ужасно ими горжусь!
А еще я очень рада, что мы с вами наконец-то познакомились: Игоря после нашей встречи на Фестивале вот уже неделю как не узнать, будто подменили! Веселится, говорит, молодость вспомнил. Взбодрился, настроение отличное, смеется все время, шутит, мол, старая гвардия еще ого-го! Планы строит на отпуск, да и вообще, вспомнил, что у него должен быть отпуск! Последние пять лет я от него этого слова вообще не слышала. Так, в лучшем случае, на выходных куда-то выбирались, не дальше Финского залива. Так что это очень хорошо, что вы приехали, Александр! Вы уж, пожалуйста, приезжайте почаще теперь, мы всегда будем рады вас видеть!
Я никогда мужа не расспрашивала про вашу службу, знаю, что вы еще срочниками воевали вместе, через многое прошли. То, что он у вас старшиной роты был, я сама догадалась по тому, как вы его называли… Он-то сам никогда не рассказывает, а я и не спрашиваю. Он у меня, конечно, молодой генерал, еще пятидесяти нет, но уже и не двадцать лет. Вижу: сильно устает, нервничает много, переживает, хоть и бодрится. Когда в Сирии события начались, сутками у себя на Дворцовой пропадал, потом началось: командировка за командировкой… Чего мне это стоило – пережить эти все его командировки… Сейчас-то уже поспокойнее, но все равно, вы же знаете: в армии вечно то одно, то другое. Чаще стал за сердце хвататься, когда думает, что я не вижу. Никак не могу отправить к кардиологу, – только рукой машет. Генералу, якобы, не пристало по врачам ходить! Подчиненные, мол, не поймут! А кому еще ходить? Все здоровье по военным городкам растерял да по командировкам. Но сейчас-то мы, надеюсь, в Петербурге надолго, слава богу, и я добьюсь обязательно, чтобы он местным врачам показался. Это он внешне такой толстокожий и невозмутимый, но я-то его с лейтенантской поры знаю, меня не проведешь! Вот и стараюсь его чаще выводить куда-нибудь, чтобы он хоть немного отвлекался. А что может быть лучше музыки? Так и ходим вместе по концертам. А еще знаю, что для него все его боевые друзья – просто на вес золота, лекарство от всех болезней! Вы уж про нас, пожалуйста, не забывайте, приезжайте в Петербург при первой же возможности!
А теперь про Макарова и Мерца. Это старая история, вокруг нее действительно очень много кривотолков. Я высылаю вам в приложении к этому письму несколько файлов, почитайте, там мемуары самого Николая Петровича Макарова, две книги: «Задушевная исповедь» и «Семидесятилетние воспоминания». Писатель он, конечно, спорный. Изящным стилистом его тоже я бы не назвала, но он добросовестно дает в своих воспоминаниях огромное количество фактов, причем с такими подробностями, в таких деталях, что вся картинка тех далеких событий будто оживает перед глазами. Игорь тоже прочел эти книги, похвалил как раз за информативность. Сказал, что «данных много, есть с чем работать».
Дополнительно я вам пересылаю еще мемуары современников Макарова, воспоминания его учеников, – все, что мне удалось найти из публикаций в прессе тех лет. Там и статьи, и рецензии, и письма самого Николая Петровича.
Теперь о Мерце. Это был очень талантливый композитор, который, увы, прожил совсем немного. Вот я для вас подготовила, не поленилась, несколько выдержек о его музыкальном наследии от очень известного белорусского композитора, писателя, историка и музыковеда Виталия Константиновича Родионова. Здесь всего несколько абзацев, но как емко и красочно сформулировано! Я считаю, что никто лучше Родионова пока не смог описать музыку Мерца. В своей книге «Гитара музыкальная» Родионов, в частности, пишет:
«Музыка Иоганна Мерца – это зрелый романтизм, это взгляд на мир глазами влюбленных, когда природа полна неги, таинственности и красоты. Особенно трогательны у Мерца пьесы, насквозь пронизанные романсовыми интонациями. Нельзя описать словами бесконечную гамму полутонов и оттенков прекраснейшего из человеческих чувств, свойственную гитарной музыке Мерца! Возвышенная лирика передает радость встречи, нежность объятий и горечь разлуки в пьесе «К Мальвине». Иной раз человека охватывает глубокая задумчивость, и он задумывается о смысле жизни, любви, счастье и неизбежных утратах в «Песне без слов». К примеру, «Любовная песнь» – это нежная, ласковая речь двух молодых людей, признательных судьбе за то, что встретились и теперь могут наслаждаться красотой возвышенного чувства. «К моей далекой» – это обращение к даме сердца с приветливыми и ласковыми словами. В одном из «Романсов» мы наблюдаем, как затаенная, нежная беседа перерастает в бурные объяснения. В другом «Романсе», с типичным для Мерца развернутым речитативным вступлением и собственно самой мелодией, есть затаенная грусть, просветленный характер которой напоминает о былом счастье. В «Вечерней песне» лирическое настроение словно исчезает в ночном сумраке.
Вторая область его приоритетов – пьесы жанрового характера. «Полонез №5» – пьеса роскошная по звучанию, эмоционально приподнятая, словно рисующая кавалеров со шпорами и четкой поступью. «Полонез №6» более мягок, хотя в нем тоже подчеркнуты изящество и грация придворного общества. «Мазурку» отличает проворный ритм и непреодолимое стремление к чему-то яркому, неудержимо манящему. Итальянским колоритом веет от его «Тарантеллы», по-россиниевски порывистой. Плавная мелодия «Гондольеры» рисует нам лодочника, который тихо плывет по глади венецианских каналов, распевая сладостную песню любви. К танцевально-образной сфере гитарного творчества Мерца можно добавить пьесу под названием «Детская сказка», в которой первоначальная задумчивость сменяется взволнованным чувством, порожденным то ли каким-то страшным событием, то ли неожиданным сюжетным поворотом. Но концовка сказки благополучная.
Третья область музыки Мерца абстрактна. Это игриво-манерное «Скерцо», виртуозное «Каприччио» и классические по форме «Вариации», где лирическая тема преобразуется в лирико-драматизм, в жанровость, в патетику, наконец, в типично романтическое жизнеутверждение.
Словом, мир для Мерца пленителен, очарователен, полон загадок и тайн. Он всегда желанен, ибо в нем обитает та, с которой делишь счастье неувядаемой любви. Таким образом, австрийский гитарист создал условия для появления романтического стиля Франсиско Тарреги, родившегося за четыре года до смерти Мерца».
Согласитесь, прекрасно сказано! Я готова подписаться под каждой строчкой! И, кстати, обратите внимание, ни слова об «Элегии»! Не странно ли это? Чтобы такой серьезный исследователь, как Родионов, пропустил такого уровня сочинение, обойдя его молчанием? Наводит на размышления, не правда ли? Все, все, больше здесь цитировать ничего не буду, чтобы не наскучить, все материалы отправляю приложением к письму.
Да, чуть не забыла, вот что еще хотела добавить. История музыки вообще, и гитарная музыка здесь не является исключением, изобилует фактами, когда авторство тех или иных произведений оспаривается или приписывается другому композитору. Да что там, путаница происходит даже с названиями произведений одного и того же композитора! Например, вы же помните Ану Видович? Прекрасная гитаристка из Хорватии? Уверена, что вы ее запомнили. Помните, что она играла в конце первого отделения? В программке Фестиваля это произведение было указано как «Астурия» Исаака Альбениса. Ана сыграла блестяще! Мы еще с вами обсуждали ее безупречное тремоло и динамические контрасты. Вспомнили? Так вот, я вам сейчас расскажу, что это произведение вовсе не «Астурия»! А по содержанию, по смыслу, скорее я бы назвала ее «Андалусией»! Ну, или как минимум, тем названием, что дал произведению сам композитор. Кстати, это был один из вопросов, который мы обсуждали в Оргкомитете, и не слишком приятный, но это сейчас не так важно…
Так вот, Исаак Альбенис и его «Астурия». Это очень известная пьеса из «Испанской сюиты» Альбениса, именуемая также в некоторых нотах как «Легенда» и ещё чаще как «Прелюдия». Здесь тоже целый детектив! Все дело в том, Александр, что при жизни Альбениса эта пьеса была опубликована под названием «Прелюдия», поскольку ею открывалась сюита «Испанские песни». Ни к какому конкретному географическому региону Испании, которую так любил Альбенис, она не была тогда прикреплена! Ни в первом издании, ни в последующих прижизненных. И лишь спустя два года после смерти композитора, издатель Хофмайстер, взял ранние пьесы Альбениса и собрал их в сюиту. Оставалось только придумать название к каждой из них, что он и сделал. На свой вкус. Вы представляете? Сам придумал названия! Ох уж эти издатели!
Вот так «Прелюдия» вдруг стала «Астурией», – и зря, поскольку здесь же чистейшее фламенко! А Астурия, как вы знаете, это север Испании, а там совсем другая музыка. Вы же помните это произведение, Александр? На всякий случай я вам еще отправляю ссылку на него в интернете, чтобы вы смогли еще раз его прослушать. Вы поймете, что я права, это скорее «Андалусия», то есть, юг Испании, а не север! Главная тема здесь – это фламенко и канте-хондо, особая старинная манера пения юга Испании, драматичная, очень свободная, богатая мелизмами. Канте-хондо – прямой родоначальник жанра фламенко! Его корни восходят к арабским и цыганским напевам. Как говорил Федерико Гарсия Лорка, «канте-хондо – нить, связывающая нас с загадочным Востоком». А финал – это хорал. И вспоминается сразу начало «Кордовы» – там ведь у Альбениса тоже хорал, и этот хорал, пожалуй, можно расценить как недвусмысленный намёк на историю тех мест. И возникает перед глазами Мескита, бывшая соборная мечеть в Кордове, грандиозное сооружение, превращённое в христианский храм, – вот вам и снова связь с Востоком! – и при чем же здесь, спрашивается, Астурия? Вот так! Надеюсь, я не слишком вас запутала, Александр.
Кстати, хочу еще кое-что добавить, теперь уже как исполнитель. Хофмайстер, перелицовывая произведения Альбениса, кое-что подправил и в нюансах. Сейчас объясню. Я вам отправлю ноты обоих вариантов, сравните сами. Отличий не так много, но они есть. В частности, авторское указание темпа «Allegro ma non troppo», то есть «Быстро, но не слишком», Хофмайстер, очевидно, с умыслом заменил на простое «Allegro» – «Быстро», превратив тем самым ностальгическое – ведь Альбенис писал почти всю музыку о родной стране, находясь в эмиграции, – воспоминание о южной Испании и её арабском прошлом в виртуозную выигрышно-концертную токкату. Другими словами, в этакую быструю, ритмичную, более легкую для восприятия пьеску… А ведь Альбенис писал совсем другое! Но коммерческие интересы для Хофмайстера, очевидно, были на первом месте. Грустно, но факт!
И это, кстати, не единственный случай, когда в погоне за наживой издатели таким образом «правили» музыкальные произведения. Но иногда путаница с названиями и авторством произведений происходила и по совершенно другим причинам.
Приведу еще несколько примеров. Есть замечательный французский гитарист и композитор Роланд Дьенс. Его очень известную композицию «Tango en Skai» у нас переводили как «Небесное танго». И ноты издавали под этим названием, и со сцены объявляли. Кстати сказать, танго-то чудесное, мне очень нравится! Но вот пару лет назад я прочла его интервью «Гитарному журналу», где он говорит буквально следующее: «Название „Tango en Skai“ не имеет ничего общего с небом, даже рядом не стоит с английским „sky“. „Skai“ по-французски – это дерматин, кожзаменитель, материал наподобие пластика, из которого делают сумки. Это значит, что вещица – по сути, карикатурное, фальшивое танго. Корни этой музыки вовсе не в Буэнос-Айресе, это все не всерьез, просто шутка». Хороша шутка! Тут, как вы видите, путаница чисто лингвистическая.
А вот с произведениями нашего замечательного гитариста-семиструнника, лютниста и композитора Владимира Федоровича Вавилова история еще загадочней, настоящая мистификация! Я уверена, что вы никогда не слышали о таком композиторе. И так же я совершенно уверена, что вы знаете мелодию, которую называют «Город золотой». У Бориса Гребенщикова была такая песня, вспомнили? А еще, наверняка, раз вы любите классику, вы слышали «Аве Мария» Каччини. Это волшебная музыка!
Владимир Федорович в тысяча девятьсот семидесятом году записывает целую пластинку средневековой лютневой музыки. А какие произведения и имена там были указаны! «Канцона и танец» Франческо Канова да Милано – та самая мелодия «Города», «Павана и гальярда» Винченцо Галилея и позднее ставшая знаменитой во всем мире «Аве Мария» Джулио Каччини… Великолепный получился сборник у Вавилова! Как историку лютневой музыки ему не было равных, поэтому никто не сказал составителю сборника ни слова против.
Лишь после смерти Владимира Федоровича выяснилось, что он был не только исполнителем, но и прекрасным композитором. Ноты произведений, что исполнял Вавилов, попросту отсутствовали в международных архивах и нотных библиотеках. Более того, если взять ватиканского лютниста Милано, то Ватикан опубликовал официальные списки его произведений, и «Канцона и танец» там не упоминалась… А по «музыке Каччини» было проведено даже официальное исследование и стилистический анализ показал: «…септаккорды по „золотой секвенции“, синкопы в басу, седьмая повышенная ступень в миноре, двойная доминанта, – такого в принципе не могло быть написано четыреста лет назад».
Это все музыкальные термины, не хочу вас путать, Александр, главное то, что всю эту музыку написал сам Владимир Федорович, что позднее подтвердили и родственники, и близкие друзья. Опасаясь, что под настоящим именем его музыка никогда не будет опубликована в Советском Союзе (слишком много было бюрократических барьеров), он пожертвовал своим авторством ради того, чтобы эту музыку узнали во всем мире. Так оно и произошло! И лишь спустя десятилетия его авторство постепенно начинает восстанавливаться. Хотя многие музыканты сегодня все еще исполняют «Аве Мария» как произведение Каччини, не вспоминая о настоящем авторе, что я считаю страшно несправедливым.
Ну вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать. Все файлы я к письму приложила, буду очень рада, если вы сможете изучить материалы и составить по ним свое собственное мнение, это было бы для меня очень важно. Игорь шлет вам самый сердечный привет, говорит, что в любое время ждем вас в гости!
Еще раз огромное вам спасибо!
Ирина Петровская»