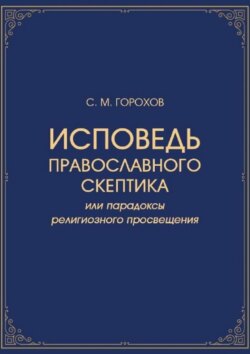Читать книгу Исповедь православного скептика, или Парадоксы религиозного просвещения - Сергей Михайлович Горохов - Страница 8
Часть I
Парадоксы религии
(о вере, религиозном скептицизме
и самоидентификации верующего)
Глава 1. Вера, надежда и скептицизм
1.2. О надежде
ОглавлениеТо, что вера в Бога – это ее иррациональный образ не вызывает малейших сомнений.
Но что заставляет нас верить и какие надежды мы связываем с верой в Создателя.
Уверен, что каждый верующий, любой религии или учения не раз задумывался и задавался этим вопросом.
Эту (основную) причину феномена веры в Бога очень метко подметил директор отделения по исследованиям в области аномальной психологии в Британском колледже Голдсмита – Кристофер Френч:
«У нас есть вполне понятная естественная потребность верить в то, что мы переживаем физическую смерть и воссоединимся с любимыми людьми, с которыми расстались.
Таким образом, все, что подтверждает эту идею, будь то реинкарнация, медиумы, духи, является доказательством в пользу бессмертия души.
Это нечто, в правдивость которого нам всем очень хочется верить».
Убежден в том, что мало у кого могут возникнуть сомнения в справедливости данного утверждения.
Понятно почему мы веруем, но на что мы надеемся в своей вере.
Ответ для всех лежит на поверхности.
Ведь не даром мы говорим, что верим в Бога и надеемся на жизнь после смерти – бессмертие.
Но надежда является не только движущей силой, которая рождает у нас конкретное желание действовать, обратившись к вере.
Для всех христиан вера, надежда и любовь – это те три добродетели, которые открывают путь к бессмертию.
Общую для всех христиан отправную точку в разработке учения об этих трёх добродетелях дал еще в VI веке Григорий Великий (папа римский Григорий I, почитаемый в православии как Григорий Двоеслов).
Веру, надежду и любовь он считал основанием и источником всех остальных добродетелей, без которых невозможно достичь спасения и вечной жизни [14]:
«Добродетель как фундаментальная философско-богословская категория, охватывает все ценностно-значимые аспекты
На протяжении всей истории христианской мысли учение о добродетели постоянно развивалось; многие богословы развёртывали своё видение состава этой комплексной категории, сами эти составляющие неоднократно переосмысливались.
Понятие теологической добродетели – фрагмент этого цельного учения, фокусирующий внимание на «трёх добродетелях», поставленных в контекст спасения человека в богословском смысле».
Но теологическая оценка полноты и обоснованности «трех добродетелей» как основы христианского богословского учения о спасении не может являться сферой дискуссий и споров простых верующих мирян.
В длящихся столетиями богословских дискуссиях и спорах об источниках возникновения веры оппоненты вряд ли достигнут консенсуса, оставаясь с большой вероятностью на своей исходной точке зрения.
Но скорее всего все они согласятся с утверждением о том что вера не является неизменным, стабильным состоянием в продолжении периода нашей мирской жизни.
Хотя большинству из них не хотелось бы чтобы это было именно так.
Но реальность свидетельствует об обратном.
Ведь в глубине души каждого (даже самого убежденного) верующего не может не присутствовать толика (пускай даже крошечная) сомнений, поскольку доказать существование Бога, как и его отсутствие невозможно.
И в те моменты, когда наша вера испытывает сомнения, а наш разум искушения в ее истинности, ей на помощь приходит именно надежда.
Несмотря на то, что в мирской практике обсуждения религиозных вопросов надежда постоянно остается как бы в тени своей старшей «сестры» веры, в христианском богословии надежда – следующая (вторая) из ступеней лестницы духовного роста (у которой первая ступень – вера), по которой восходят к Богу.
При этом «если в настоящей жизни эти три добродетели равны между собой; то „в жизни будущего века“ любовь окажется больше веры и надежды, ибо последние „прейдут“, и останется лишь любовь».
Еще раз акцентирую внимание на том, что теологическая интерпретация христианского (православного) богословского учения о «трех добродетелях» не является предметом обсуждения в данной работе.
Нас интересует исключительно понимание надежды как «положительно окрашенная эмоция, возникающая при напряжённом ожидании исполнения желаемого и предвосхищающая возможность его свершения; философский, религиозный и культурный концепт, связанный с осмыслением состояния человека, переживающего этот эмоциональный процесс» [15].
Именно «напряженное ожидание» бессмертия как конечного итога движения путем ко спасению, обозначенному той, или иной религией, и есть тот неиссякаемый источник духовной энергии, обеспечивающий как постоянство (неизменность) ее иррационального образа (веру в Бога) так и доверие избранной религиозной доктрине.
Если мы воспринимаем веру как сформировавшееся представление о возможности наступления того, или иного события, то надежда, это скорее чувственная подпитка его (этого события) ожидания.
С этой точки зпения мне представляется удачной для понимания отношения вера/надежда аналогия, приведенная в [16]:
«Надежда – это подойти к реке с желанием ее переплыть, сесть на бережок и сказать: «Возможно, я ее и переплыву когда-нибудь…».
А вера – это когда ты подошел к реке, зашел в воду и поплыл.
Чувствуете разницу?
Вера – это действие! Когда ты веришь, не важно, есть ли у тебя спасательный круг и купальный костюм. Не важно, даже, кролем или брассом ты будешь плыть и насколько сильно течение тоже не важно.
Важно только то, что ты «зашел в воду и начал плыть», а впереди у тебя другой берег!».
Но безусловно отношение вера/надежда имеют значительно более серьезное представление [17]
Так в ответе на вопрос – в чем разница между надеждой и верой, мы находим:
«Разница в том, что вера – сейчас, надежда – всегда в будущем. И на то есть причина.
Согласно (Рим.8:24—25), «мы спасены в надежде».
Если бы наша надежда уже исполнилась, незачем было бы надеяться на это. Но если мы надеемся на то, чего пока еще не имеем, то должны ожидать терпеливо и уверенно.
Надежда – это то ожидание, предвкушение, которое поддерживает нашу веру бодрой до тех пор, пока то, о чём мы верим, не осуществится.
Вера всегда сейчас, как сказано в Послании к (Евр.11:1): «Вера же есть осуществление ожидаемого…».
Вера приносит осуществление нашей надежды.
Вера говорит, что вы получаете, когда молитесь (Марка 11:24).
Вера находится в сердце.
Надежда поддерживает вашу веру активной до тех пор, пока то, о чём вы верите, не будет перенесено из духовной сферы в естественную».
Очень интересно различие понятий вера и надежда в религиозном аспекте представлено в [18]:
«Библия не дает точного определения надежды.
В словарях русского языка мы читаем, что надежда – это вера на осуществление чего-то возможного.
Да, между верой и надеждой есть много общего, но все-таки вера – не надежда, и надежду нельзя назвать верой.
Нельзя сказать: по надежде вашей да будет вам; испытанная надежда; имейте дерзновение в надежде.
Сходство веры и надежды в следующем: во что мы верим и на что надеемся когда-то произойдет в будущем.
И вера, и надежда – в ожидании и терпении.
Вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1).
Бог дает уверенность в том, что произойдет и даже часто показывает через различные образы и духовные ощущения.
Надежда – не говорит, когда будет.
Просто будет. Царство Божье будет. Христос придет на Землю. Страдания и скорби закончатся. Надейся. В надежде на уготованное вам на небесах (Кол.1:5).
Надежда, в отличие от веры, не видит.
Вера видит. Очами веры мы видим не только, что будет (в ближайшее время, через день, год), но часто и как будет, каким образом.
«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим.8:24—25)».
Хорошее сравнение с якорем приводит ап. Павел:
«Взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека». (Евр.6:18—20)
Якорь мы не видим – он глубоко, но корабль держит.
Часто вера действует (Бог сказал Аврааму выйти из дома отца своего, чтобы дать в наследие землю, и он поверил – пошел с верой в неизвестное), а надежда – только ждет. И у нее не пустые ожидания, они основаны на обещании Бога (в этом схожесть надежды с верой).
Надежда проявляется тогда, когда нет уже веры.
Грешник говорит: «Неужели и меня Бог простит. Не может быть. Я столько сделал зла в этой жизни».
Иов, когда страдал, практически потерял веру, что он исцелится от проказы, будет таким же – прежним Иовом – здоровым, богатым, полным сил. Но он не оставлял надежды: я же не согрешил, а Бог всё знает. Я буду ждать.
Часто сатана подходит к нам с такими мыслями: «Тебе не спастись!
Как ты устоишь перед соблазнами, испытаниями? Будешь ли ты верен Христу, когда я начну тебя искушать?».
И в этом случае ап. Павел советует нам взять шлем надежды спасения (1Фес.5:8) – чтобы не принимать мысли от лукавого.
Да, мы не знаем, что будет с нами завтра, у нас нет полной уверенности, что мы устоим в гонениях и прочих искушениях.
НО – с нами Бог, Который обещал: «Я с вами во все дни до скончания века» (Матф.28:20).
И только на Него наше упование: «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой» (Пс.39:2).
Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь (Иер.17:7)».
Завершая это небольшое отклонение от «красной нити» данного раздела – отношение веры и скептицизма, мне хотелось бы привести удачное (с моей точки зрения) выражение, резюмирующее соотношение понятий вера/ надежда [19]:
«НАДЕЖДА сходна с МЕЧТОЙ, в то время как соответственно ВЕРА – с ЦЕЛЬЮ».
Не верьте в то, что мечта умирает последней.
Мечта не умирает никогда!
Ну а сейчас вернемся к скептицизму, скептикам и их отношению к вере и религии.