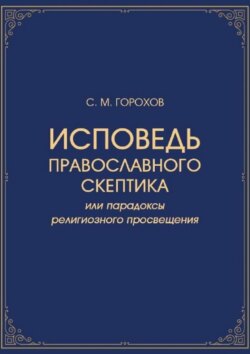Читать книгу Исповедь православного скептика, или Парадоксы религиозного просвещения - Сергей Михайлович Горохов - Страница 9
Часть I
Парадоксы религии
(о вере, религиозном скептицизме
и самоидентификации верующего)
Глава 1. Вера, надежда и скептицизм
1.3. О скептицизме
ОглавлениеТак кто они (вера и скептицизм) – соратники или соперники, оказывающие свое влияние на наши религиозные представления.
Попробуем найти ответ на этот вопрос.
Но сначала – базовые определения.
Слово скептик происходит от среднего французского sceptique или латинского scepticus, буквально «секта скептиков».
Его происхождение в греческом skeptikos, означая Inquiring, отражающий или тот, который сомневается [20].
Открыв ссылку [21], был удивлен не только точностью приведенных формулировок, но и тому обстоятельству, что в них содержится ответ на некоторые ложные представления, искажающие понимание этого понятия (скептика) и дискредитирующее всех тех, кто руководствуется скептическим подходом не только в научной деятельности, в повседневной мирской жизни или религиозном (духовном) просвещении.
«Скептицизм (рассматривающий, исследующий) – философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины.
На русский язык «скепсис» часто переводят как «сомнение», но при этом теряются важные оттенки смысла: желание познания искажается до самодовольного неверия; если и не невежества, то интеллектуального бессилия.
Между тем скептики стремятся к расширению своего познавательного опыта.
В современности под скептицизмом нередко понимается нигилистическая позиция полного отрицания всего: теорий, идей и т.д., категорическое несогласие с любым тезисом.
Такое восприятие является ошибочным и основано на особенности человеческого восприятия: стандарте подмены знания верой, в том числе и в несуществование чего-либо.
Более того, скептик вообще не может стремиться к отрицанию какой-либо идеи, так как это означает логическое противоречие с позицией «ничего не утверждать и не отрицать».
Безусловно и совершенно очевидно, что понятие скептицизма (скептика) не может и не должно зависеть от области его применения.
Более того, именно скептицизм в Вашей мирской жизни может стать тем фактором, который способен изменить ее в лучшую сторону, предоставив для этого совершенно новые возможности.
Этту мысль убедительно обосновал Гай Гаррисон в своей книге «Думай» [5]:
«Научное мышление не лишает вас радости, которую приносят фантазии и неосуществимые мечты.
Скептический образ мышления не предполагает ограничений в решении возникающих изо дня в день вопросов и проблем.
Я обратился к скептицизму для того, чтобы свести к минимуму время, затрачиваемое впустую на ложь, ошибки и заблуждения, а также чтобы по возможности обезопасить себя от разного рода обманщиков и мошенников.
Научный образ мышления, разумеется, не гарантирует вам идеальной жизни, свободной от ошибок и рисков, но позволяет уверенно и с успехом лавировать в море заблуждений и предрассудков, свойственных нашему безумному миру.
Эта книга – призыв полагаться только на себя.
Чтобы выжить в реальном мире и не стать жертвой обмана со стороны разного рода жуликов, шарлатанов и просто заблуждающихся людей, вы должны жить своим умом.
Разумеется, к мнению специалистов, к информации, получаемой из заслуживающих доверия источников, прислушиваться стоит, но гораздо важнее не забывать рассуждать здраво, когда в вашу дверь стучатся с какими-то необыкновенными историями. Всем нам следует научиться отличать правду от вымысла.
Странные, необычные, неправдоподобные, опасные идеи окружают нас со всех сторон, причем каждый день появляются новые, поэтому мы не успеваем их осмыслить заранее и тем более принять меры, чтобы обезопасить себя должным образом.
Преимущество скептического взгляда на вещи состоит в том, что все подвергается сомнению и разумной критике.
Недостаточный скептицизм представляет собой, пожалуй, самую опасную и недооцениваемую форму охватившего мир кризиса.
Применяемый же настойчиво и энергично, скептицизм способен в одночасье изменить к лучшему судьбы всего человечества.
Это наше самое мощное оружие и самая надежная оборона, вот только мы в большинстве своем не знаем об этом и не пользуемся этим».
Безусловно понятие скептицизма (как и веры) благодатная почва для продолжительных философских дискуссий, цель которых постараться найти исчерпывающее представление о его содержательном наполнении.
Чтобы представить широту охвата, профессиональный уровень и глубину дискуссии, связанной с его (скептицизмом) пониманием, достаточно привести ссылку на работу [22], в которой – «анализируются понятия «скептицизм», «сомнение», «недоверие», определяется их смысловая близость, устанавливается их связь с интеллектуальной деятельностью человека.
В работе делается вывод о том, что скептицизм представляет собой абстрактную логическую категорию, содержательный минимум понятия не отличается четкостью и детализируется с помощью апелляции к ассоциативно близким понятиям «сомнение» и «недоверие», которые служат для обозначения субъективного и критического отношения к носителю информации».
Очевидно, что для того чтобы не «утонуть» в этом бескрайнем море философских мнений и рассуждений, касающихся возможных синонимов, расширяющих понимание сути понятия «скептицизм» необходимо конкретизировать область распространения скептического подхода, на сферу религиозных отношений.
Тем более, что религиозный скептицизм является разновидностью скептицизма, относящегося к религии.
Религиозные скептики сомневаются в религиозных авторитетах, скептически относится к конкретным религиозным убеждениям и/или практика, являясь при этом не обязательно антирелигиозными людьми.
И, хотя большинство скептиков считают себя атеистами или агностиками, это не является основанием для того, чтобы отождествлять скептицизм с негативным отношением к религии.
Пожалуй самый авторитетный на сегодня критик догматических учений Майкл Шермер (Michael Brant Shermer) писал, что «религиозный скептицизм является процессом открытия истины, а не общего неприятия.
По этой причине религиозный скептик может поверить, что Иисус существовал, а во время допроса утверждает, что он был Мессией или совершал чудеса» [23].
Подобное признание, высказанное таким авторитетным скептиком, убежденным материалистом и атеистом каковым является Майкл Шермер, дорогого стоит.
Одновременно это утверждение является прекрасным примером объективной, не ангажированной оценки, высказанной М. Шермером в отношении возможностей, области применения и границ использования скептического подхода.
Интересную психологическую характеристику отношений вера/скептицизм дал Г.Г.Шпет [24}:
«Вера состоит не в чем ином, как в приятии возможности за действительность.
Вере всегда противостоит сомнение или всеобщая возможность сомнения – скептицизм».
Сам Г. Г.Шпет по этому поводу привел любопытное сравнение, замечая, «что мы имеем дело с одной палкой: хватишься за веру, на другом конце – скептицизм, хватишься за скептицизм, на другом конце – непременно вера».
Но так ли это на самом деле.
И что же такое скептицизм применительно к религиозному просвещению.
Пока очевидным и неизменным остается лишь вывод о недопустимости рассматривать скептический образ мышления как противоречащий духовному просвещению.
Это утверждение соответствует пониманию сути религиозного скептицизма [25] как методологического подхода в отношении тех или иных аспектов религиозности, не связанного с отрицанием религии в целом.
Религиозные скептики ставят под вопрос религиозные авторитеты и при этом не обязательно являются антирелигиозными людьми, но скептически относятся к конкретным религиозным убеждениям и/или обычаям» [25].
Убедиться в недопустимости рассматривать скептический образ мышления верующих как методического подхода (инструмента) направленного исключительно на критику и дискредитацию религиозных доктрин (учений) Вам поможет ссылка на работу [26].
Приведу лишь заключительный фрагмент этой работы:
«Таким образом интенсивная продукция скептической аргументации в современных исследованиях религиозных феноменов лишь частично и только в некоторых специализированных аспектах разрушает религиозные притязания на истину.
В целом она форсирует вариант реабилитации веры, что далеко не всегда осознается адептами неоскептицизма».
Кроме того, обязательно обратите внимание на приведенное ранее утверждение – «скептики стремятся к расширению своего познавательного опыта»
Это один из самых ответственных моментов, позволяющих нам осознать и принять область предназначения и приложения скептического анализа.
А чтобы «закрепить» это утверждение в нашем сознании, в качестве аргумента приведу евангельское наставление – «что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Лк.6:41).
Сама церковь призывает руководствоваться скептическим подходом в первую очередь для своего критического самоанализа.
И тем не менее на лицо парадокс – религии «не дружат» со скептицизмом.
Попробуем разобраться в нем и его причинах.
Основная причина лежит на поверхности.
Это конфликт мировоззрений между наукой, базирующейся на скептическом подходе к анализу достигнутых результатов ставящим цель получения новых знаний и догматическим мировоззрением, отстаивающим незыблемость фундаментальных основ своих религиозных доктрин.
Содержание этого конфликта великолепно изложил С.С.Кутателадзе (Семен Самсонович Кутателадзе – доктор физико-математических наук, профессор кафедры математики Новосибирского государственного университета) в своей статье «Ученый и верующий» [27] со многими положениями которой сложно не согласиться.
Именно поэтому позволю себе привести некоторые выдержки из этой работы:
«Религия – древняя психотерапия – создана человеком для себя самого.
Человек становится субъектом собственной религии, освобождаясь от забот реального мира и мечтая о перерождении или бессмертии.
Религия абстрагируется от человека, размещая свои догматы в самом центре культуры.
Наука создана человеком для грядущих поколений.
Она позволяет человеку преодолеть свою биологическую ограниченность и обрести бессмертие в потомках.
Человек – источник и цель науки.
Религия апеллирует к чувствам, наука – к разуму.
Религию исповедуют и проповедуют, а науку изучают, развивают и совершенствуют.
Религия требует, наука просвещает.
Религия обслуживает одинокого человека, делит человечество на конфессии и секты.
Наука едина для всех людей и служит человечеству как популяции. Наука альтруистична и открыта, в ней нет места мистике и предрассудкам.
Клерикализм эгоистичен и закрыт, он заменяет универсальный гуманизм нетерпимостью к инакомыслию, а доверие – верой.
Наука отделена от религии в суждениях и учёного и верующего.
Религиозная и научная версии мировоззрения отличаются кодификацией понимания. Религия основана на вере, а наука веру исключает.
Вера разъединяет, ибо субъективна. Объективное знание объединяет, ибо не терпит субъективизма.
Религия старается стать рядом с наукой, объявляя науку и веру двумя крыльями, несущими человека к истине. Но наука и религия служат истине, понимая её по-разному.
Для верующего поиск истины – субъективное приближение к непостижимому и мистическому идеалу, для учёного – объективизация знаний о том, что и как есть на самом деле.
Наука не рекрутирует сторонников, она безразлична к религии и ничего для себя не требует, оставаясь не толерантной к вере и основывая свои суждения исключительно на фактах и логике.
Универсальной религии нет, а многообразие диалектов науки не ведёт к её разрушению.
Источник и предмет веры вне человека.
Для религии человек – субъект добра и зла, существующих вне его воли и компетенции. Религия выступает как священный сверхъестественный дар человеку. Религиозная вера призвана вести человека к бессмертию.
Наука констатирует свою человеческую природу. Наука ничего не обещает и ничего не требует от человека, она только оберегает и просвещает человека, говоря ему даже горькую правду».
Если у Вас после прочтения этого фрагмента работы [27] сложилось впечатление о то, что ученый не может быть верующим человеком, то Вы ошибаетесь.
Обратите внимание на, пожалуй, ключевую (с моей точки зрения) ремарку данной статьи – «Клерикализм заменяет доверие – верой».
Собственно, и эта работа акцентирует внимание на этом развернутом понимании веры в религиозном аспекте как двух ее образов – убежденности и доверии, оба из которых присутствуют в нашем сознании.
Главной, определяющей целью научной деятельности является получение новых знаний о реальности.
Знания приобретаются человеком во всех формах его деятельности – и в обыденной жизни и в политике, и в экономике, и в искусстве, в религии…
Приобретая эти знания, человечество не только трансформирует все сферы мирского бытия, но и расширяет свои космологические представления о вселенной.
При этом по мере все большего накопления и распространения знаний об окружающем мире объективной реальностью становится тот факт, что сфера веры все более отодвигается от границ повседневного бытия человека, находя свой объект в малоисследованных областях науки и практики.
Фактически наука, не вторгаясь в содержание религиозных доктрин опосредовано принуждает верования (учения) к постоянному их развитию, или как минимум к внесению определенных корректив для сохранения к ним доверия со стороны верующих.
Это при том что любая из мировых конгрегаций ставит своей задачей закрепление (консервацию) в сознании верующих незыблемость догматов, составляющих основу ее религиозной доктрины, предлагающую верующим собственную картину мироздания.
Фактически любая религия или религиозное учение по факту выступают «тормозом» в продвижении новых знаний и научных открытий в общественное сознание, в первую очередь в космологии.
Это и есть тот самый, главный (основной) эпистемологический конфликт науки и религии.
Безусловно остановить развитие человеческой цивилизации, основанное в первую очередь на достижениях науки, не в состоянии ни одна религия, ни одно религиозное учение.
Но если науке, по большому счету нет дела до религиозной сферы нашего бытия, то все религии, учения, школы, общества, секты не только вынуждены «уживаться» с действительностью объективно противясь ходу развития науки и росту интеллектуального уровня своих верующих, но и вынуждены учитывать эти изменения, творчески развивая свои религиозные доктрины.
Но причем тут скептицизм, зададите Вы вопрос.
И будете правы.
Ведь скептицизм как образ мышления не влияет на эти отношения.
Более того, сами религии активно используют инструменты критики и скептического анализа в межрелигиозных дискуссиях и спорах о своем праве вести верующих к спасению и бессмертию.
Ключ к разгадке этой задачи лежит в сознательном избирательном и целенаправленном использование скептического подхода для решения собственных корпоративных задач критики своих оппонентов.
Что, к сожалению, характерно не только для нашей повседневной жизни или процессов, протекающих в секулярном мире, но и стало нормой в нескончаемых, продолжающихся столетиями схоластических межрелигиозных спорах и дебатах.
Любопытно, что это так называемое «фрагментарное» (а по сути – избирательное, целенаправленное) использовании религиозного (в данном случае правильнее – антирелигиозного) скептицизма в течении всей истории человечества испытала на себе и сама церковь [28].
Ключевыми утверждениями этой любопытной работы, на которые недопустимо не обратить внимание, являются:
– сила и степень действенности использования антирелигиозного скептицизма во многом зависят от обстоятельств социального характера;
– наиболее плодотворен скептицизм в отношении религии, когда он выражает настроения сил, стремящихся изменить существующий порядок вещей в направлении «социального прогресса» – например, антирелигиозный скептицизм как инструмент для выполнения социального заказа (в том числе СССР).
В данном случае приходится признать и констатировать что к сожалению скептицизм как методологический принцип познания и постижения истины был сознательно использован как инструмент критики, выполняя задачи, сформулированные в интересах государственных и политических структур осуществляющих богоборческую политику.
Именно такое предельно узкое, циничное и целенаправленное избирательное (фрагментарное) использование скептического подхода, превратившегося в интересах государственной политики в инструмент тотальной критики всех аспектов религиозной жизни, сформировал его (скептицизма) негативное восприятие «в глазах» значительной части общества.
Что не без собственного интереса и успеха продолжают использовать сами религиями применительно к доктринам своих оппонентов.
При этом, активно применяя скептический анализ и критику религиозных доктрин своих оппонентов, практически все конгрегации болезненно реагируют на использование подобного подхода своими верующими, когда речь заходит по существу о том, чтобы увидеть себя «со стороны».
Приходится констатировать следующее важное положение.
Негативное отношение церковь (а если быть точнее – ее одиозные представители) проявляет не к скептицизму в целом (что было бы просто нелепостью и нонсенсом), а к скептикам и, в первую очередь к религиозным скептикам, исповедующим (как ни странно и печально) именно эту религию.
Чтобы осознать и объяснить этот парадокс, вернемся на некоторое время к Символу веры.
Напоминаю:
– 1-й член Символа веры, признаваемый подавляющим количеством жителей планеты – это образ иррациональной веры (убеждение);
– в членах Символа веры со 2-го по 10-й сформулированы фундаментальные догматы христианской религиозной доктрины, принимаемой и исповедуемой 29% населения Земля,
К сожалению, сегодня это всего лишь треть челвпеческой цивилизации.
Но религиозная доктрина любой религии (учения) кем бы она не была основана, является не абстрактным объектом (мифом), а информационным продуктом созданным ее основателем, доверие к которому обосновывается эмпирическим опытом и описаниями мистических переживаний ее последователей.
И нравится ли это кому либо, или нет, но именно эти члены (со 2-го по 10-й) Символа веры (как и религиозные доктрины иных религий и религиозных учений) являются объектом другого образа веры – доверия;
С другой стороны, 11-й и 12-й члены Символа веры в консолидированной редакции (формате) фактически выражают (декларируют) надежду более 90% жителей Земли на бессмертие, являясь отражением их иррациональной веры как убеждения в продолжение жизни после смерти.
Но в отличие от 1-го члена Символа веры каждая религия (учение) на нашей планете предлагает в своих религиозных доктринах (каждая из которых, в свою очередь требует обоснования и, как следствие, является образам веры – доверием) собственное описание бессмертия (формы и содержания жизни после смерти), настаивая на его иррациональном признании как истины.
И христианская религиозная доктрина, сформулированная в первых 10-ти членах Символа веры в данном случае не исключение из правила.
А существование трех мировых христианских религий, каждая из которых представляет в своих догматических учениях собственное видение состояния души после смерти – лишь подтверждают это правило.
А теперь вопрос – разве могут возникнуть сомнения в необходимости дополнительных аргументов (не зависящих от корпоративных интересов конкретной религиозной доктрины), свидетельствующих о праве и способности любой религии предлагать верующим свое видение пути к бессмертию.
Можно с прежним упорством продолжать призывать верующих к слепому, иррациональному признанию догматов своей религии (учения) «не замечая» ни роста их общего уровня образования, ни предоставляемых им сегодня принципиально новых, широких возможностей доступа к информации.
Как невозможно не замечать жесточайшую конкуренцию различных доктрин в борьбе «за выживание» на религиозной карте планеты, предопределяющую для каждой из них жизненную необходимость поиска новых и все более убедительных аргументов с целью повышении доверия к ее праву вести верующих к бессмертию.
Это обстоятельство очень точно отмечено в [29]:
«Ошибочно полагать, что вера (а точнее – доверие как ее образ) есть нечто не нуждающееся в подтверждениях.
Наоборот, наиболее важные основания веры должны требовать от верующего непреложных личных (а не зазубренных, как бывает с теоремами) доказательств.
Одной из целей духовной жизни является получение таких доказательств, которое достигается осмыслением своей жизни, жизни других людей, а также опыта подвижников от древних веков до недавнего времени»
Но еще более важными и значимыми являются реальные научно обоснованные результаты, свидетельствующие в пользу и способствующие укреплению вероисповеданию самого религиозного скептика.
Собственно, именно это блестяще продемонстрировал Б.В.Раушенбах [13], доказав всему человечеству возможность триединства Святой Троицы – фундамента христианских религий.
Именно достижению этой цели следуют верующие скептики, изучая духовное наследие исповедуемых ими религий или религиозных учений, дополняя их новыми достоверными и объективными данными научных исследований.
Ведь основное достоинство скептицизма как методологического принципа познания, как «инструмента» постижения истины заключается не только в его независимости от области приложения – будь это область науки или теологии.
Скептицизм не может и не должен использоваться избирательно (фрагментарно) в интересах различных социальных групп, государственных и политических структур и в частности религиозных конгрегаций и объединений.
Ошибочно думать, а тем более обвинять верующих скептиков в критиканстве или желании нанести какой-либо вред той религиозной доктрине, ставшей предметом их скептического анализа.
Более того – выявляя неточности и противоречия, присутствующие в догматических учениях, религиозные скептики инициируют их скорейшее устранение силами священничества и представителей профессионального богословия (чьей обязанностью является решение этой задачи), исключая тем самым возможность искажения и сознательного превратного толкования основ и сути религиозных доктрин.
Недопустимо искажать суть, а тем более смешивать и подменять религиозный скептицизм его антиподом – антирелигиозным скептицизмом, ярким примером которого явилась целенаправленная богоборческая деятельность, обеспечивающая социальный заказ власти в период существования СССР.
Если Вы думаете, что антирелигиозный скептицизм исчез из нашей жизни, то это глубокое заблуждение.
Как не парадоксально, его наиболее уродливое проявление антирелигиозного скептицизма нашло свое место в странах, в которых законом установлена официальная религия.
В отчете IHEU (International Humanist and Ethical Union), направленном в декабре 2012-го года в ООН, были перечислены семь стран, в которых за атеизм и отказ от исповедования (или критику) избирательно отобранной и возведенной в ранг государственной политики религии, законодательно предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.
Но, пожалуй, наиболее ярким проявлением антирелигиозного скептицизма является демагогия, возведенная атеистами в ранг их публичного обоснования своего отношения к религии.
Свой отказ от иррациональной веры в Бога они, представляясь скептиками «обосновывают», а фактически подменяют бесчисленными и бесконечными заявлениями о религиях, религиозных учениях, верованиях, как сознательно сформированных бизнес структурах, созданных их основателями исключительно ради власти и собственного обогащения.
И, к сожалению, сами религии, учения, верования, религиозные общества, секты, школы (количество которых определить невозможно), сами создают прецеденты и тем самым предоставляют аргументы для подобной антирелигиозной агитации.
Ведь несмотря на то, что любая религия или религиозное учение в своих декларациях пытаются дистанцироваться от секулярного мира, реальность свидетельствует об обратном.
Будучи интегрированными в социум, став по существу его составной частью, церкви не могут не испытывать влияния всех тех негативных факторов, которыми заполнена наша бренная мирская жизнь.
Ведь и сама церковь в какой-то мере отражает социальный срез общества со всеми присущими ему недостатками.
Вряд ли у кого-либо существуют сомнения в том, что среди служителей культа любой конфессии всегда присутствует определенный процент тех, для кого церковь стала средой удовлетворения не только духовных, но и собственных мирских интересов и далеко не всегда адекватных материальных потребностей.
Несмотря на относительно небольшой процент присутствия в ограде церкви подобных «духовных пастырей», именно они являются одним из наиболее болезненных для любой конгрегации негативным фактором, разрушающим репутацию и доверие к ее (церкви) миссии вести верующих к праведности и любви.
Церковь вне сомнения это осознает и стремится от них избавиться.
Насколько удачно – зависит от нее самой.
Но в состоянии ли избавиться от своих грехов и пороков человечество.
Так приходится признать, что антирелигиозный скептицизм жил и, к сожалению, продолжает жить.
Тем более, и это печально сознавать, что фактически все религиозные конгрегации (и православная церковь не исключение) в своей миссионерской практике использую по сути тот-же антирелигиозный скептицизм (его составляющую – критический анализ) направляя острие скептического подхода на дискредитацию религиозных доктрин своих оппонентов.
Ведь все мы являемся свидетелями рождения новых учений и непримиримой (и безрезультатной) многовековой конкуренции мировых религий на «внешнем фронте» за право именовать себя истинными путями к бессмертию с одной стороны, а с другой – ожесточенной борьбы внутри этих самых религий и учений за сохранение целостности и исключения вероотступничества в среде своей паствы.
Но тогда в чем причина того, что скептицизм как образ мышления верующих отторгаются ортодоксальными кругами священничества и богословия всех без исключения религий и рассматривается ими в качестве негативного фактора, направленного на разрушение их догматического учения.
Ответ содержится в самом вопросе.
Мы определили ту «узловую» точку, вызывающую болезненную реакцию у православного духовенства и богословия, требующих от своих верующих слепой, иррациональной веры в догматическое учение церкви..
Но подобного (слепого) отношения от своих верующих к исповедуемым доктринам добиваются представители священничества и всех иных христианских конфессий.
Все религии отвергают скептический подход в тех случаях, когда объектом его анализа является их собственное догматическое учение.
Но особую обеспокоенность представители священничество испытывают и проявляют болезненную реакцию тогда, когда инициатива такого анализа исходит от религиозных скептиков, являющихся последователями именно этой религии.
Религиозные скептики, выявляя подобные искажения и вынося их на обсуждение вне ограниченного (замкнутого) круга «уполномоченных» для богословского обсуждения подобных вопросов лиц, становятся «нежелательными элементами»
Как следствие, усилиями ортодоксальных фундаменталистов и фанатиков религиозные скептики внутри конфессии представляются в качестве раскольников или еретиков, ставящих своей задачей посеять сомнение верующих в ее (религии) истинности, разрушить целостность и духовное единство самого тела церкви, подорвать авторитет и само право духовенства осуществлять пастырскую миссию вести верующих к Богу и бессмертию.
Каждый в состоянии сформировать свое представление в качестве ответов на вопрос о возможной мотивации подобной агрессии в адрес религиозных скептиков.
Но неименной в данной ситуации является убежденность «защитников» догматических учений в недопустимости проявления любых сомнений (скептицизма) высказанных в адрес каких-либо вопросов излагаемого ими догматического учения.
Вот только, как мы уже знаем, само понятие веры они трактуют расширительно, сознательно объединяя ее образы (иррациональное убеждение и доверие) в единую «слепую веру» по отношению к различным составляющим догматического учения.
При этом «не замечают» не только различия, а зачастую неоднозначность и противоречивость, святоотеческих мнений и наставлений, имеющих место в историческом духовном наследии исповедуемой религии, но и что особенно важно – отсутствие четко сформулированных, не допускающих искажения и произвольного толкования текстов самих догматов – основы основ религии.
Резюмируем.
Чтобы определить свое отношение к религиозному скептицизму, верующему придется задать и найти (по крайней мере для себя) честный ответ на вопрос – моя вера должна быть слепой или осознанной.
Именно положительный (в пользу веры осознанной) ответ на этот вопрос пугал всегда и страшит сегодня представителей ортодоксального священничества и богословия всех религий, учений и конгрегаций, считавших своей монополией и религиозные знания и право на духовную власть над своими верующими.
Веками это право было обеспечено уровнем развития человеческой цивилизации и в первую очередь реальным, крайне несовершенным состоянием коммуникационной сферы.
И все это время церковь сохраняла монополию и на сами религиозные знания и на их содержание в миссионерской практике.
Представьте – ведь всего каких-то 100—150 лет назад на безграничных просторах России во всех удаленных селах, деревнях, уездных городках при практически полном отсутствии коммуникаций и доступа к знаниям, единственным источником просвещения являлись церковно-приходские школы.
И священнослужитель в этой социальной системе был фактически единственным их (знаний) носителем.
Революционные достижений в области информатики и сетевых коммуникаций кардинальным образом изменили эту ситуацию, создав с одной стороны новую реальность в отношениях верующих с представителями духовенства и богословия, а с другой – открыли каждому верующим окно возможностей всестороннего познания (скептического анализа) всей полноты исторического наследия исповедуемой религии как основы его духовного просвещения.
Закрыть это окно, или пытаться запретить верующим воспользоваться предоставленными возможностями, уже никто не в силах и не в состоянии.