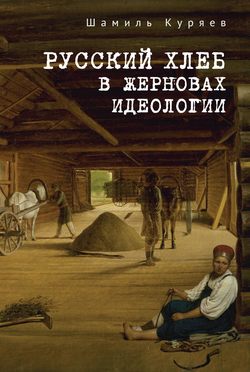Читать книгу Русский хлеб в жерновах идеологии - Шамиль Куряев - Страница 8
Часть I
По старым прописям
Глава 2
Оглавление§ 2.1. С особым пиететом наши леваки относятся к свидетельствам Льва Толстого. Ещё бы! – ведь это, по их мнению, «свидетельство человека, которого трудно упрекнуть в неадекватности, нерусскости или нечестности» (Павел Краснов). Хм–м… Насчёт «нерусскости» – не поспоришь: чистопородный русак. С честностью и (особенно) адекватностью дело обстоит несколько сложнее.
Из всего огромного творческого наследия Льва Толстого, насчитывающего более девяноста томов, неосоветчики – все, дружно, – цитируют одни и те же отрывки (правда, расставляя их иногда в разной последовательности…). По этой причине физически невозможно привести все образцы бессовестной эксплуатации имени великого писателя! А любая попытка составить более–менее представительную «антологию» встретит массу затруднений (главное из которых: кого же предпочесть?), ибо на память сразу приходит уйма имён.
Выйти из затруднения помогает Максим Калашников (в девичестве – Владимир Кучеренко). Как–никак, Максим Калашников – один из самых яростных хулителей Российской Империи и апологетов «Советского Проекта»; человек, не первый десяток лет известный всей читающей и думающей России; активный интернет–боец и весьма плодовитый писатель.
Сравнительно недавно, в ноябре 2017 года, к 100–летию Октябрьской революции, Калашников выложил на своей странице в «Живом журнале» материал под оригинальным названием «Лев Толстой: Во всей деревне не нашлось и рубля денег…».
Содержание, собственно говоря, оправдывает это специфическое название – ибо вклад самого Калашникова минимален; он всего лишь предварил цитату из Толстого своим кратеньким предисловием. Вот таким: «В конце XIX века Лев Толстой посетил несколько десятков деревень разных уездов. Он подробно описал свои впечатления от увиденного. Благодаря записям современников мы можем взглянуть на русскую деревню конца 19 века без прикрас».
Далее идёт толстовский текст (без каких–либо видимых правок; разве что с многоточиями на месте купюр – хотя и не везде…). Это призвано произвести впечатление добросовестности цитатора: мол, смотрите, это говорю не я; сам–то я почтительно и «нейтрально» молчу, – всё это говорит Лев Толстой, ум, честь и совесть земли Русской!..
Поскольку именно этот, размещённый Калашниковым, текст и используется всеми неосоветчиками (с небольшими вариантами), стоит привести его полностью – ничего в нём не меняя и ничего из него не выкидывая; в том самом виде, в каком его посчитал нужным выложить Максим Калашников к 100–летнему юбилею Октябрьской революции. Вот он:
«Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891–м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка – пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забелённых, если есть корова, и незабелённых, если её нет, – и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить.
Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит, так же как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умоляют помочь им. «Хоть бы мало–мальски ребята отдыхали», – говорят бабы. «А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснёт не ужинаючи»…
Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне не нашлось и рубля денег… Точно так же у богатых, составляющих везде около 20%, много овса и других ресурсов, но кроме того в этой деревне живут безземельные солдатские дети. Целая слободка этих жителей не имеет земли и всегда бедствует, теперь же находится при дорогом хлебе и при скупой подаче милостыни в страшной, ужасающей нищете…
Из избушки, около которой мы остановились, вышла оборванная грязная женщина и подошла к кучке чего–то, лежащего на выгоне и покрытого разорванным и просетившимся везде кафтаном. Это один из её 5–х детей. Трёхлетняя девочка больна в сильнейшем жару чем–то в роде инфлуэнцы. Не то что об лечении нет речи, но нет другой пищи, кроме корок хлеба, которые мать принесла вчера, бросив детей и сбегав с сумкой за побором… Муж этой женщины ушёл с весны и не воротился. Таковы приблизительно многие из этих семей…
Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа. Прежде всего он – и это знает всякий мужик – он
1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями и хлебом.
2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.
3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.
4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.
5) от чиновников, угнетающих народ.
6) от податей.
7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы.
Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже… На лучших землях не родилось почти ничего, только воротились семена. Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зелёная. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она не съедобна. Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют».
Вот такой натюрморт.
§ 2.2. А теперь – что нужно знать об этом тексте.
Во–первых, текст этот – сложносоставной, а не «цельнотянутый»! Чтобы составить такую неприглядную мозаику, неосоветчикам потребовалось несколько источников: статья Льва Толстого 1891 года «О голоде», черновые наброски Льва Толстого к этой статье (ставшие достоянием широкой публики значительно позже – когда они вошли в Полное собрание сочинений) и статья Льва Толстого 1898 года «Голод или не голод?».
В своё время публикация обеих этих статей на территории Российской Империи – по вполне понятным причинам – встретила затруднения. Поэтому существует несколько их вариантов (и даже под разными названиями). Ранние публикации – более сдержанные («приглажены» или урезаны самим автором или редакторами); более поздние (впоследствии вошедшие в Полное собрание сочинений Льва Толстого) считаются оригинальными. Хотя, строго говоря, вопрос о том, какой текст считать оригинальным, не так прост – ибо «оригинальные» рукописи содержат множество позднейших авторских правок.
Но все эти нюансы интересны скорее для литературоведа. Современный же политический публицист, пишущий о предреволюционной России и желающий, в подтверждение своего мнения, сослаться на авторитет Толстого, имеет полное право воспользоваться как первоначальными, так и позднейшими вариантами этих статей (и даже черновыми набросками). Ведь все они отражают мнение Толстого! Единственное принципиальное требование тут – уверенность в авторстве (а как раз по этому пункту никто никогда никаких сомнений не высказывал). Так что Бог с ней! – с «мозаичностью» приведённого текста Льва Толстого.
Хотя метод… скажем так… своеобразный. И что самое характерное – скрытый от читателя.
Во–вторых, мозаичность мозаичностью, но уж намеренные–то плутни с авторским текстом – когда хитрый цитатор делает пропуски или «обрезает» авторскую мысль не по причине наличествующей в ней «воды» (или слишком большого её объёма), а с конкретной целью: скрыть от читателя некие обстоятельства, «подкорректировать» смысл написанного, – это уже совсем некрасиво! А с Львом Толстым в данном случае поступили не по–джентльменски.
Например, непосредственно после слов крестьянок деревни Гневышево о детях, которые просят хлеба, но матерям нечего им дать, следуют слова самого Толстого «я знаю, что тут есть доля преувеличения» (статья «Голод или не голод?», 1898 год). Но в цитате на месте этих толстовских слов – многоточие.
Или вот о жителях Богородицкого уезда, которые шалеют от кваса, сделанного на муке с лебедой. Забавно, что, судя по словам самого Толстого, в Богородицком уезде шалели не только от кваса: «Волостной писарь жаловался, что пьянство в успенье (престол) было такое, как никогда» (статья «О голоде», 1891 год). Но цитата начата со следующего предложения.
А вот едва ли не самая мрачная сцена (и тоже показательная в плане жульничества) – с крестьянкой, у которой больная дочка. Цитата заканчивается фразой: «Таковы приблизительно многие из этих семей». И – многоточие. А ведь у Толстого мысль на этой фразе не заканчивалась, а продолжалась дальше: «Но и у наделённых землёй крестьян, принадлежащих к разряду опустившихся, не лучше» (черновые наброски к статье «О голоде», 1891 год).
Обрыв цитаты – это ещё полдела. Главный вопрос в другом: а для чего вообще в данном случае обратились к наброскам?
Было бы понятно, если б в итоговый текст этот кусок не вошёл. Но в статье данный эпизод расписан Толстым весьма подробно: «Муж этой женщины ушёл куда–то и пропал. Она кормится и кормит своих больных детей побираясь. Но побираться ей затруднительно, потому что вблизи подают мало. Надо ходить вдаль, за 20–30 вёрст, и надо бросать детей. Так она и делает. Наберёт кусочков, оставит дома и, как станут выходить, пойдёт опять. Теперь она была дома, – вчера только пришла, и кусочков у ней хватит ещё до завтра. В таком положении она была и прошлого и третьего года, и ещё хуже третьего года, потому что в третьем годе она сгорела и девочка старшая была меньше, так что не с кем было оставлять детей. Разница была только в том, что немного больше подавали и подавали хлеб без лебеды. И в таком положении не она одна. В таком положении не только нынешний год, но и всегда все семьи слабых, пьющих людей, все семьи сидящих по острогам, часто семьи солдат» (статья «О голоде», 1891 год).
Как видим, это – семья многодетной, но безмужней нищей; к тому же – погорелой нищей.
От этого, разумеется, картина не делается менее печальной; но всё–таки надо иметь в виду, что это – «маргиналы». Понятно, что остаться без кормильца для многодетной семьи – катастрофа! Это и сейчас–то, при современном уровне благосостояния, при нынешней системе соцзащиты и медицинского обслуживания, – было бы тяжким испытанием… Однако считать подобный пример доказательством того, что крестьяне в дореволюционной России постоянно голодали, – вряд ли обоснованно.
И недаром сам Толстой считает нужным сделать обобщение (кратко это было им сделано уже в черновых набросках) – что, мол, таково положение семей у людей слабых, пьющих и преступных. Но неосоветчикам, естественно, нужен другой «угол освещения»!
Самое же главное, что надо иметь в виду при чтении этой беспорядочной «нарезки» из текстов Толстого, – то, что здесь запечатлена отнюдь не «повседневность», а моменты крупных народных бедствий (последствия неурожаев 1891–го и 1897–го годов). Поэтому подчёркнуто «прозаические» вступительные слова Калашникова о том, что–де «в конце XIX века Лев Толстой посетил несколько десятков деревень разных уездов», благодаря чему «мы можем взглянуть на русскую деревню конца 19 века без прикрас», являются злонамеренной ложью.
Конечно, нельзя утверждать, что весь этот шедевр обличительной неосоветской публицистики – плод интеллектуальных усилий самого Максима Калашникова; проявление его собственной изобретательности. Он вполне мог, не вникая и не задумываясь, передрать этот текст в готовом виде у кого–то из своих собратьев по разуму.
Тут интереснее другое. Автору–компилятору (кто бы он ни был) можно было бы обойтись и без подтасовок. Учитывая известные убеждения и обличительный пафос Толстого–публициста, можно было процитировать его и более добросовестно. И впечатление (особенно – у неподготовленного и невнимательного читателя) было бы не на много слабее…
Так что это, видимо, – уже привычка. Без вранья не могут ни на шаг!
§ 2.3. Однако же тот абзац, в котором Толстой тезисно, в семи пунктах, объясняет, «откуда голод», был приведён компиляторами без каких–либо купюр и искажений. Этот обвинительный акт обществу и государству (по–другому его не назовёшь) содержится в черновых набросках Льва Толстого к статье «О голоде» 1891 года.
К нашему цитатору в данном случае нельзя предъявить никаких претензий: никаких иных вариантов просто не существует!
Зато следует предъявить претензии самому Льву Толстому. Есть все основания для обвинения Толстого–публициста в пристрастности и необъективности, в стремлении при случае максимально драматизировать ситуацию. Конечно, это можно было бы и «ввести в выигрышный контекст», уподобив патриотической пропаганде в разгар войны (тоже – страшного народного бедствия), по принципу: всё, что помогает государству воевать, мобилизует нацию перед лицом врага, «мотивирует» армию на победу, – то и хорошо.
Для такого общепризнанного авторитета, «властителя дум» и «учителя жизни», каким был для всей мыслящей России Лев Толстой, было вполне естественно стремление «мобилизовать» своим пером русское общество на помощь пострадавшему сословию – крестьянству. А если для этого требуется где–то «сгустить краски» – то и пускай!..
К сожалению, Толстой–публицист не был тем, чем был Илья Эренбург во время Великой Отечественной войны. И вся страстная толстовская публицистика (прямое следствие его парадоксального мировоззрения) несла России только зло. Прежде всего – российскому крестьянству, о чьём благе Толстой вроде бы радел и о чьей участи так скорбел…
Что должен делать человек, пользующийся авторитетом Толстого и желающий помочь российским крестьянам – спасти их от периодически угрожающих им неурожаев и, как следствие, голода? Он должен громко указать боготворящей его интеллигенции и учащейся молодёжи «Наши проблемы» и «Наши задачи» (можно было бы именно в такой форме: кратко, тезисно, пронумеровав каждый пункт…). Благо, проблемы эти были очевидны: экономическая отсталость России, пугающее отставание от передовых (и потому – более сытых!) стран Запада, вопиющее положение с технической оснащённостью крестьянского труда (прежде всего – из–за слабой промышленности), низкая аграрная культура крестьянских хозяйств (и вообще – порочная организация хозяйствования на селе), катастрофическая нехватка медицинского персонала и т.д.
Отсюда и стоящие перед страной задачи: форсированное развитие промышленного производства, создание более густой железнодорожной сети, строительство элеваторов, повышение агрокультуры, организация народных школ и сельскохозяйственных училищ. Это – помимо «общинного вопроса»!.. И разумеется, не надо интеллигентному и образованному человеку учиться пахать или тачать сапоги, подобно тому как это делал Лев Толстой, – пахать и без того было кому… Хочешь помочь народу – иди в инженеры, врачи, агрономы, учителя. И помогая государству – поможешь народу!
Но «поздний» Лев Толстой был не столько моралист (как думают многие), сколько анархист. Потому он и перечисляет – искренне, со всем свойственным ему жаром, – «откуда голод народа»:
1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями и хлебом.
2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.
3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.
4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.
5) от чиновников, угнетающих народ.
6) от податей.
7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы.
В какую же пучину безумия надо было погрузиться на старость лет этой «глыбе», этому «матёрому человечищу», чтобы написать такую глупость. Итак, долой свободный оборот земли! Долой товарное производство хлеба! Долой фабрики и заводы! Даёшь «сухой закон»! Армию распустить! Долой административный аппарат! Налоги отменить! Церковные и правительственные школы… видимо, сжечь? Раз уж они «сознательно поддерживают народное невежество»?..
§ 2.4. Только не надо лукавых разъяснений в духе того, что Толстой причинами народного голода называл не фабрики и заводы «вообще», а именно те, что были в России («с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий»); и не любых чиновников, а именно тех, что были в России («угнетающих народ»).
Какого–то «идеального» промышленного производства (с идеальным регулированием трудовых отношений) быть не может; тем более – все эти блага и социальные гарантии никто не подаст на блюдечке в отсталой полуаграрной стране. Безусловным благом для народа являлись и те фабрики и заводы, что были! – по сравнению с полным их отсутствием… И жаль, что их было мало. И надо было всеми силами стремиться к скорейшему увеличению их числа.
Ну, а уж для того, чтобы клясть пресловутых «чиновников» императорской России (в большинстве своём – тружеников и подвижников, которые были весьма немногочисленны, но тащили на себе бремя управления огромной Империей) – для этого надо было вовсе совесть потерять. Об отмене податей и воинской повинности смешно и говорить… Неужто России на пороге жестокого 20–го века надо было добровольно превратиться в этакую летописную дорюриковскую Русь: придите, кто хочет, и владейте нами?
А чтобы воспринимать созданные государством и Церковью народные школы как рассадник невежества – кем надо было быть для этого?! В чём вообще могло заключаться это «сознательное поддержание невежества»? – разве что в преподавании ученикам Закона Божьего (от которого еретика Толстого, разумеется, корчило, как беса перед заутреней…).
Вот в «опростившихся» толстовских общинах жизнь была бы прекрасна! И урожаи были бы стабильно высокими, и солнце бы светило ярко, и «дожжик» вовремя шёл, и запас хлеба в общинном амбаре не переводился бы, и народная медицина (подорожником и корой дуба) была бы на высоте. И жили бы все до ста лет – в мире, тишине и сытости, не воюя и не противясь злу насилием…
Сдержанную, но меткую оценку учению Толстого дал ещё в 1894 году его собрат по перу Антон Чехов (в письме к издателю Суворину): «Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6 – 7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что–то протестует; расчётливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человечеству больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч».
Можно долго гадать и полемизировать по поводу внутреннего мира и душевного состояния великого русского романиста в разные периоды его жизни. Нельзя исключать, что причина многочисленных толстовских «странностей» (с возрастом проявлявшихся у него всё резче!) коренилась в постепенно прогрессирующем психическом расстройстве, вызванном кризисом мировоззрения (утрата веры), крайне нездоровой атмосферой, которую создавали постоянно окружавшие Толстого «ученики» и «последователи», а также невыносимой внутрисемейной обстановкой (мучительный разлад с женой). К слову сказать, жена Толстого в последние годы жизни была откровенно ненормальной: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой», – это диагноз психиатра Россолимо.
Как бы там ни было, безусловным является одно: Толстой–публицист, Толстой–политик – никакой не мудрый «учитель жизни», а парадоксальная гремучая смесь из Сократа, Савонаролы и бродячего дервиша.
По сути дела, Лев Толстой, с его отрицанием и Церкви, и государства, и научно–технического прогресса, и вообще любой традиционной организации человеческого общества; с его идеями «опрощения», «непротивления» и «ненасильственного анархизма», – был в каком–то смысле ещё более радикальным «ниспровергателем», чем Ленин. А уж ссылаться на его обличительные писания (неважно куда посылаемые – в книгоиздательства, императору Александру, императору Николаю, премьер–министру Столыпину или в английскую «Дейли Телеграф») как на беспристрастное свидетельство («свидетельство человека, которого трудно упрекнуть в неадекватности») – это и есть неадекватность!
И неслучайно высокомудрые мнения Толстого о причинах народного голода оказываются сегодня востребованными на таких экстремистских пабликах как «Нечаевщина».