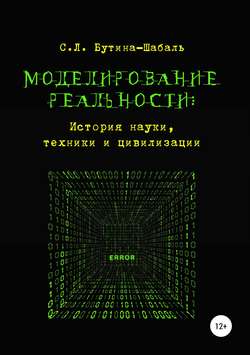Читать книгу Моделирование реальности: история науки, техники и цивилизации - Светлана Львовна Бутина-Шабаль - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Наука до XVII века
Аристотель
ОглавлениеВ античности среди многообразия убеждений наибольшим числом приверженцев отличались эпикурейская, аристотелевская и платоновская системы. Но магистральное развитие естественнонаучного мышления связано с одной из них – системой Аристотеля, которая стала известна благодаря аристотеликам – школе перипатетиков8 , существующей с IV в. до н.э. по III в. н.э. В средневековую Европу аристотелизм пришел из арабского мира (сначала это были переводы комментариев к текстам Аристотеля) и произвел настоящую революцию: в 1215 году в Парижском университете вместо латинских поэтов стали изучать формальную логику. Сочинения Аристотеля по физике и метафизике (философии) оставались под запретом до 1255 года, когда факультет искусств в Париже предписал их изучение. Аристотелизм проник в католическую теологию, и произошла христианизация его учения. Появлялись переводы трудов Аристотеля на европейские языки, все умножалась огромная масса комментариев к ним. С XIII века система Аристотеля господствовала в Европе, под ее влиянием совершались научные открытия вплоть до XVI-XVII веков.
Аристотель был величайшим энциклопедистом своего времени, который смог свести в единую систему известные в античности факты о природе и обществе, размышления большого числа философов и естествоиспытателей, живших в период древнегреческой цивилизации. Содержание обширного материала не выходило за рамки повседневности, однако на этой базе Аристотель начал конструировать новое для человечества смысловое пространство (называемое им «эпистеме»), которое в дальнейшем стало европейской наукой. Аристотель поспособствовал возникновению науки, поскольку предпринял тотальную систематизацию сведений о мире, относящихся к сфере здравого смысла, и разработал метод получения нового знания – формальную логику (силлогистику).
Конструирование эпистеме началось с интуитивного обобщения опытных данных, результатом которого стала полная и завершенная картина мира, где каждое тело и движение нашло себе место. Поскольку хаотичная и существующая вне всяких закономерностей реальность непознаваема, выстроенный Аристотелем из разрозненных данных миропорядок, в общем и в своих частностях, стал одним из первых предметов исследования европейской науки.
Основатель эпистеме, Аристотель, задал ее фундаментальные ориентации. Прежде всего он четко отличил научное знание от предположения и мнения, закрепив его специфику: «знать» – это «знать первые причины, или элементы» вещи. А поскольку только общее раскрывает причину и только необходимое не бывает иначе, Аристотель сформулировал задачу науки как достижение исключительно общего и необходимого знания. Эпистеме о единичном невозможна: сам по себе факт не может стать предметом науки, ибо чувственное восприятие не есть восприятие общего. Введение в научное мышление единичного происходит путем применения к полученным от него впечатлениям определенных инструментов науки («универсалий» (общих понятий)), что позволяют сделать единичное познаваемым и вписать его в общую картину реальности.
Универсалии Аристотеля
4 причины вещей:
материя, форма (сущность), источник движения, цель.
Категории:
сущность, количество, качество, отношение, место, время, состояние, обладание, действие, страдание.
Поэтому в системе Аристотеля наука намечает собственную методологию – структурный анализ, в противовес генетическому объяснению, свойственному мифологии (мифам творения).
Общее и необходимое знание должно быть достоверным, и для обеспечения достоверности науки Аристотель создает формальную логику (силлогистику) под авторским названием «аналитика». Несколькими десятилетиями позже у стоиков логика станет специальной наукой, но для Аристотеля логика – пропедевтика к науке, орудие (органон) всякой науки. Задача логики – разработка методов, при помощи которых известное данное может быть сведено к элементам, способным стать источником его объяснения. Такими методами прежде всего являются определение и доказательство. Определение заключает саму возможность науки, поскольку дает причинное, необходимое объяснение, касающееся сущности вещи. Ведь для Аристотеля знать, что есть данная вещь, и знать причину того, что она есть, – одно и то же. Определение достижимо только через соединение дедукции с опытом. Каждое отдельное свойство фиксируется посредством наблюдения. Но усмотрение существенности свойства, добытого наблюдением, достигается посредством силлогизма. Аподиктический (доказательный) силлогизм исходит из достоверных и необходимых посылок (высказываний) и приводит к новому высказыванию (заключению), которое является научным знанием (эпистеме).
Обеспечивая истинность знания, логика контролирует форму высказывания отдельно от его содержания. В этом ключе, исследуя строение силлогизмов, Аристотель представил все термины буквами, то есть ввел в логику переменные, что означает: такое заключение будет следовать всегда, независимо от терминов (от содержания высказывания). Силлогизм Аристотеля: «Если А присуще всякому В и В присуще всякому С, то А присуще всякому С». Общая формула всей импликации «Если α и β, то γ». Как импликация силлогизм должен быть либо истинным, либо ложным. Аристотель осуществил систематическую разработку силлогистических форм, доказав истинность некоторых из них и ложность всех остальных.
Итак, Аристотель создал общедоступный метод получения нового достоверного знания (формальную логику), введенные им понятия пространства, времени и причинности, а также прием классификации стали классическими инструментами научного познания.
А. Эйнштейн и Л. Инфельд в книге «Эволюция физики» указали на интуицию, при помощи которой из обобщений повседневного опыта Аристотель создал аксиомы научного исследования. Для повседневного опыта несомненными были представления о свойствах пространства, времени и движения, которые приводили к заключению, что тяжелое тело Земли неподвижно и что его естественное место – центр мира, куда Земля упала бы снова, если только ее можно было бы оттуда сдвинуть.
Пространство Аристотеля конечно и имеет форму шара, ограниченную сферой неподвижных звезд, в центре которой находится Земля. Космическое пространство качественно структурировано: разным физическим «элементам» соответствуют различные области пространства. Так, естественное место тяжелых и инертных «элементов» – в центре мира. На некотором расстоянии от центра свое «естественное» место занимает «воздух», тогда как легкие огонь и пятый элемент – «мировой эфир», всплывают к периферии шарового пространства. В соответствии со структурой пространства определяются естественные направления движений: движение, свойственное тяжелому телу, – прямолинейное падение к центру Земли. Легкие вещества «естественно» убегают от центра мира к сфере неподвижных звезд. За сферой Луны тела из легкого эфирного вещества движутся по круговым траекториям.
Такое пространство физически характеризуется как неоднородное и анизотропное (имеющее выделенные направления движения). Пространство не обладает никакой метрикой и является чисто «топологическим»: Аристотель вводит только «topoi» – пространственные точки с их локальным соседством. Топологическое пространство – это «пленум», сплошная заполненность, «соседство», исключающее пустоту. Местоположение тела в топологическом пространстве определяется его соседством с другими телами. Поэтому, строго говоря, тело не имеет «истинного» движения, оно находится в сопутствующем движении среды. Кинематическую концепцию Аристотеля современная наука относит к движению тел в вязкой среде.
Однако в этой систематизированной картине мира не получили объяснения некоторые важные физические явления – инерция и ускорение падения тяжелых тел. Слабым пунктом, привлекающим особенную критику физики Аристотеля, оказалось исключительное движение брошенного тела или снаряда, которое не является естественным и в то же время не вызвано прилагаемой силой (тело не толкают и не тянут).
Интересно, что наука пройдет долгий, сложный путь развития через этапы кризисов и научных революций и снова откроет неоднородное и анизотропное пространство космоса в Общей теории относительности Эйнштейна. При этом автор теории относительности считал рассмотрение физической реальности, исходя из повседневного опыта, продвижением по очевидному, но ложному следу в исследовании законов природы.
Тем не менее у Аристотеля определяется как базовое для физики интуитивное положение, которое будет аксиоматически присутствовать и у Ньютона, и у Эйнштейна: неизменное состояние не требует для своего поддержания никакой причины, напротив, для всякого изменения состояния необходимо «достаточное основание». Хотя если для Аристотеля понятие «состояния» – это «место» тела, то далее состояние становится динамической характеристикой тела.
Интуитивные обобщения повседневного опыта являются предпосылками научного исследования, но его базу составляет теория и метод. Само слово «теория» буквально означает «страстную и сочувственную связь с богом», изначально оно использовалось орфиками в их экстатических мистериях. Экстатическое откровение отсылает к тайнам мира, которые неочевидны в рамках повседневного опыта. Постепенно это понятие обретало рациональное содержание.
Физика Аристотеля получила свою теоретическую базу – обнажила свою скрытую тайну – в метафизике, в учении о четырех видах причин субстанции (вещи). Согласно метафизике, вещь возникает благодаря наличию четырех причин:
1. движущей (источник движения, переход возможности в действительность – это может быть природа, когда по весне распускается цветок, или ремесленник, решивший воплотить замысел);
2. материальной («то, из чего состоит вещь»);
3. формальной («что это?», или сущность вещи);
4. целевой («то, ради чего существует вещь»).
Для каждой вещи эти причины конкретны. Для космоса в целом движущей, формальной и целевой причинами одновременно является бог, или неподвижный Перводвигатель, запредельный космосу, то есть существующий вне пространства и вне времени – в вечности. Бог в акте непрерывного и мгновенного творчества осуществляет в космосе всякую потенцию, претворяет возможность в действительность, к богу всё стремится как к высшей цели.
Привнесение цели в умозрительную модель мира нарушило статичность мира и задало его направленное движение к цели (становление). В силу этого конкретные вещи, которые существуют здесь и сейчас («сущее»), оказались не столь важны, как то, какими они должны стать («должное»). Поэтому Аристотель стал рассматривать вещи с точки зрения цели возникновения, которую он называл «конечной причиной» и относил к будущему. То есть вместо вещей в их наличном или становящемся состоянии – вещей как «факт» – Аристотель рассматривал вещи в их будущем, идеальном состоянии – вещи как «проект». И сам «проект», и его реализация были правильными и совершенными, поскольку контролировались и управлялись богом. Такой подход, где акцентируется умозрительный «проект» в ущерб материально-чувственному «факту», более соответствует религии, чем науке.
Средневековая христианская церковь приняла учение язычника Аристотеля: ведь, согласно ему, мир представлялся не случайным сцеплением атомов, а упорядоченной осмысленной системой, все элементы которой находились в движении к цели (к воплощению изначально заложенного в каждую вещь проекта, детерминированного божественным Перводвигателем). И поскольку наука в качестве исходного объекта познания имеет не «должное», а «сущее», Аристотель, заложивший фундамент европейской науки, стал препятствием для ее дальнейшего развития.
Таким образом, система Аристотеля состояла из описания наличного состояния мира, являющегося интуитивным обобщением повседневного опыта, однако раскрытая тайна (теория), объясняющая причины этого состояния, носила философско-ценностный характер и заключала умозрительные конструкции будущего («должного») состояния мира и его элементов. Для исследования умозрительных конструкций Аристотель разработал особый метод – формальную логику, в рамках которой создал теорию дедукции – силлогистику, позволяющую выводить из посылок следствия при помощи алгоритма. Поэтому система Аристотеля – это изучение не материально-чувственных вещей, а их умозрительных моделей при помощи умозаключений.
Работает ли метод Аристотеля – исследование мира посредством силлогистического увязывания слов? Способность мыслить посредством слова закладывается языком, который, согласно современным когнитивным исследованиям, является структурой самого разума. Без логической увязанности слов и представлений не существуют ни теория, ни сама наука, поэтому силлогистическое исследование мира – это самый фундаментальный уровень научной методологии. Однако, как показала история, своей зрелости наука достигает, когда порядок слов замещается математическим порядком.
Авторитет Аристотеля, признанного средневековыми учеными в качестве непогрешимого, был столь велик, что Коперник, а вслед за ним и Галилей, открывшие, что Солнце, а не Земля, находится в центре видимой Вселенной, представляли свои выводы лишь как теоретические модели, предназначенные для упрощения расчетов. Тогда как на самом деле их модели были уже качественно другими и находились за рамками аристотелевской системы, поскольку обобщали наблюдения (упорядоченное чувственное познание), то есть научные факты, подвергнутые математической и тригонометрической обработке.
8
От греч. слова «перипатос» – крытая галерея, служащая лекционным залом в гимнасии (Лицее (Ликее)), где обучались философии Аристотеля.