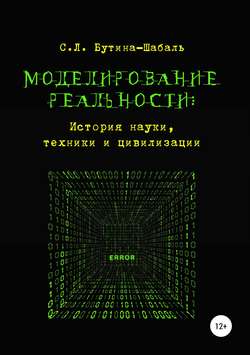Читать книгу Моделирование реальности: история науки, техники и цивилизации - Светлана Львовна Бутина-Шабаль - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 3. Наука и цивилизация XVII-XVIII вв.: модель «Механизм»
Декарт: рационализм = математический метод
ОглавлениеНачало «нормальной», по определению Т. Куна, науки, относится к XVII веку. «Нормальная» наука – та, которая получила все необходимые ей атрибуты (необъемлемые свойства) и достигла соответствия собственной сущности, а это означает, что приоритетным вопросом науки становится вопрос методологии научного исследования.
В 1637 году было опубликовано сочинение Рене Декарта «Рассуждение о методе», которое играло роль предисловия к работам «Диоптрика», «Метеоры», «Геометрия». В этом сочинении Декарт впервые отчетливо сформулировал проблему метода и предложил ее блестящее решение.
Проблема метода была задана необходимостью отделить истинное знание от ложного и найти надежный способ получения истинного знания. Решая эту проблему, Декарт вступил в бескомпромиссную борьбу с интеллектуальным или метафизическим обманом, с заблуждениями «поэтической интуиции». Люсьен Февр так характеризует его позицию: разум Декарта противостоял всему, что нес с собой XVI век – басням и неточным знаниям, предлогической мысли и псевдорационализму Возрождения, который видел «в природе только шкатулку чудес и побуждение к мечтаниям». Декарт предпринял первую систематическую критику современного ему знания, применяя сомнение как средство очистки знания от случайных «истин».
Итак, Декарт выдвинул фундаментальное требование к знанию – его достоверность. Обеспечить достоверность знания может лишь строгий контроль его получения. Но осуществление контроля невозможно без прямого доступа к знанию. Здесь следует заметить, что потребность достоверности знания формировала авангардная тенденция современной Декарту культуры. В ее рамках открылась ценность субъективно-личностного начала, освобождающегося от бытующих общепринятых стереотипов и создающего свои собственные представления о реальности. В отличие от прошлых культурных традиций, где прямой доступ к знанию связывался с откровением свыше или посвящением неофита мастером, прямой доступ в духе культурного авангардизма мог пониматься только как обращение внутрь себя. Радикальное размежевание с прошлыми традициями осуществил метод сомнения: человек перестает сомневаться только в том случае, если он обращается внутрь себя, ибо ничто не дано человеку так достоверно, как он сам себе. Но что содержательно дано человеку в качестве его самого – фундаментального достоверного знания?
“Cogito ergo sum” – «мыслю, следовательно, существую» – гениально сформулированный на века декартовский принцип достоверности. Существование человека дано ему самому как процесс его мышления. То есть мышление является самой сутью существования и аутентичности индивида. Поэтому переворачивается традиционная логика суждений: совсем не существование удостоверяет мышление (в аспекте проблемы познания: идея не вырастает из фактов), а мышление удостоверяет существование (идеи предшествуют любым фактам). Именно предшествующая существованию мысль достоверна, то есть умопостигаемое содержание мышления имеет абсолютное превосходство над чувственным содержанием. Таким образом, Декарт решительно освободил рационализм от наивного реализма, от форм телесности.
По Декарту, факт и процесс своего собственного мышления, который является ключом его существования, человек воспринимает как чистую данность. Поэтому «я сам» не может быть конечной субстанцией. (Декарт описывает «я» как вещь несовершенную, неполную, зависящую от чего-то другого, беспрестанно домогающуюся и стремящуюся к чему-то лучшему и большему, чем я сам). «Я сам» как данность указывает на свой источник; за cogito-принципом сияет божественный разум, производитель существования человека и одновременно достоверного знания как его содержания. Отчетливая, всеобщая, абстрактная природа рациональных идей свидетельствует об их божественном происхождении, тогда как чувственные источники знания порождают смутные, недостоверные продукты человеческой субъективности.
Рационализм изначально освещен божественным светом. Его становление не означало ослабления религиозной веры. Декарт ввел в науку гипотезу Бога – источника человеческого разума и рациональных идей, поскольку Декарт всем сердцем оставался католиком. Он был озабочен тем, что в смуте новых религиозных исканий Реформации божественный порядок мира потерял свою отчетливую очевидность и благую принудительность. Как Кеплер, который в движении планет страстно искал промысел божий, Декарт хотел проявить вновь этот непреложный божественный порядок, обеспечивающий совершенство и перспективу сотворенного мира. Вслед за Декартом божественный план устроения мира пытался обнаружить кембриджский профессор богословия Исаак Ньютон, половину наследия которого составляют труды по теологии. Его современник, создатель дифференциального исчисления Г. Лейбниц был столь заслуженным католиком, что папа предлагал ему мантию кардинала. Современная наука не рождалась как атеистическая, она возникла на волне религиозных исканий, идущей от событий Реформации церкви. Эта волна потопила архаичный корабль схоластики, но явила миру необычайную доблесть веры, которая направила разум на создание нового средства доказательства божественного промысла – науки.
Итак, гипотеза Бога введена Декартом в качестве необходимого обоснования принципа cogito, Бог гарантирует его истинность. Однако по существу этот принцип заключает феномен рефлексивности сознания: отражение в мысли самого процесса мышления. А именно: существование может быть удостоверено только мышлением существующего. Мышление существующего о своем существовании подтверждается мышлением об этом мышлении: «Я мыслю, что я мыслю свое существование» – мышление замыкается само на себя. Рефлексия (мышление о мышлении) оказывается наиболее напряженным, а поэтому истинным сегментом, который принцип cogito выделяет из всей доступной человеку реальности. В этом состоял настоящий прорыв в теоретических затруднениях современной Декарту науки: непосредственная данность сознанию – это его же продукт, мышлению непосредственно дается лишь мысль, которую оно ошибочно принимает за непосредственную данность материально-чувственной реальности. Однако поскольку мысль – в соответствии с принципом cogito, – и есть истина, постольку реальность следует подчинять формам мысли, а не наоборот, и все, что не входит в эти формы, вычитать как не-истину. Истинное познание – это познание мыслей о мире, а не самого мира. Мышление моделирует мир и его элементы в формах мысли и познает посредством этих форм.
Декарт применил свой метод к геометрии, в результате чего объект исследования утратил непосредственную чувственно-практическую данность и начал существовать как чистая абстракция, сконструированная умозрительная модель. Отвергая геометрический реализм древних греков, Декарт снял аристотелевское различение «места» и «тела» и отождествил тело (материю) с пространством, отчего геометрия, бывшая наукой о «месте» (то есть пространстве; например, геометрия Евклида, будучи применена в астрономии, задавала превращение небесных тел в геометрические точки и исследовала их взаимное движение), стала наукой о телесном мире. Материя получила протяжение в длину, ширину и глубину, делимость на части, структурную упорядоченность, фигуру и движение. Материальная природа, рассмотренная через призму пространственных метрик, предстала как реальность геометрических моделей, деталей для различных конструкций. И это представление сформировалось как раз в тот исторический период, когда главной задачей развития европейской цивилизации стало создание механизмов, необходимых для масштабного умножения мускульной силы человека. Жизненно востребованное конструирование ждало своего теоретического обоснования, начало которому положил Галилей, сделав первые открытия в механике.
Конструирование, предопределенное стать ведущим принципом социальной практики, в системе Декарта получило соответствующий способ познания реальности. Декарт начал интерпретировать познание по образцу производства – как конструирование моделей реальных объектов из простейших начал, присутствующих в разуме. Метод конструирования задавался правилами: начинать с простого и очевидного, путем дедукции получать более сложные высказывания, поддерживать непрерывность цепи умозаключения, не упуская ни одного звена. В полной мере этот метод совпал с математикой – ведь для природы Декарт сохранил только те определения, которые составляют предмет математики: величину (протяжение), фигуру и движение, которое сводилось к пространственному перемещению (а последнее происходило с помощью механического толчка). Остальные определения материальных тел (твердость, вкус, запах, тепло и пр.) были признаны смутными идеями, произведенными чувственной человеческой телесностью, а поэтому вычитаемыми разумом из процесса познания как не-истина.
Ключевыми процедурами метода Декарта стали измерение, гарантирующее объективность научного знания, и упорядочение. Объект научного исследования (движущееся тело) предстал как математический объект – имеющая объективное существование, истинная теоретическая конструктивная модель, состоящая из комплекса измеренных (числовых) параметров. Уже Галилей использовал математику для своих экспериментов, но Декарт представил и обосновал математический метод как единственно возможный научный метод!
Воссозданный в науке мир понимался как истина и сущность, как реальность, приближенная к замыслу Бога, а поэтому дарующая человеку демиургическую силу. В сочинении «Рассуждение о методе» Рене Декарт писал: «Возможно вместо спекулятивной философии, которая лишь задним числом понятийно расчленяет заранее данную истину, найти такую, которая непосредственно приступает к сущему и наступает на него, с тем, чтобы мы добыли познания о силе и действиях огня, воды, воздуха, звезд, небесного свода и всех прочих окружающих нас тел, причем это познание (элементов, стихий) будет таким же точным, как наше знание разнообразных видов деятельности наших ремесленников. Затем мы таким же путем сможем реализовать и применить эти познания для всех целей, для которых они пригодны, и таким образом эти познания … сделают нас хозяевами и обладателями природы».
Современник Декарта Френсис Бэкон, так же устремленный нарождающейся наукой Нового времени, предлагал раскрывать тайны природы, прибегая к научной “inquisition” – инквизиции («расследование», «следствие», «пытка», «мучение»), в качестве которой он видел эксперимент. Вырванные у природы под «пыткой» признания – научные знания становились бы средством дальнейшего покорения природы. Девиз «знание – сила» стал свидетельством активного познания, принуждающего природу к служению на благо человека.
В основе исторического развития человечества лежат ответы на вызовы природы. Но освобождение человека от порабощения природной средой, предпринятое посредством его творческого решения, не делает его совсем свободным: теперь с не меньшей силой человека подчиняет его собственное решение. Эта же закономерность действует в области системного познания: целенаправленно созданный для применения в отношении всего универсума метод становится господствующим и детерминирует познание, моделируя в соответствии с собственными принципами объект познания. Человек уже видит сквозь призму этой модели и никак иначе.
С XVII века истинная сущность объекта познания улавливается в его формализованную модель, особенности которой определяются применяемым методом. Какую же модель конструировал метод Декарта?
Из четырех причин Аристотеля для субстанции математический метод Декарта востребовал только две: движущую (производящую) и формальную причины. Формальная причина содержалась в математических закономерностях существования тела; движущая причина производила механическое движение тела и совпадала с конструкторскими решениями разума материализовать определенный проект. Однако картина мира всегда включает не только элементы мира, но и их взаимодействие. В таком случае как именно могут взаимодействовать тела, абстрагированные в пространственные параметры, иначе говоря, материальные тела, ставшие математическими? Поскольку внутри такие тела пустые, нейтральные, они не способны проницать друг друга, но могут соприкасаться своими контурами и передавать сдвигающие их толчки. Тогда образ мира стал представлять собой систему математически сформатированных тел, которые оказывают друг на друга причинное механическое воздействие. А это уже известная человечеству из производственной практики модель механизма. Но поскольку действие механизма уже не требовало постоянного божественного вмешательства извне, получивший свою автономию механистический мир вышел за рамки влияния религии.