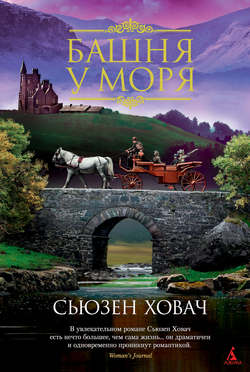Читать книгу Башня у моря - Сьюзен Ховач - Страница 12
II
Маргарет
1860–1868
Верность
Глава 4
Оглавление1
Поначалу я не поняла, что мой брак вошел в новую фазу. Семена раздора были посеяны ко времени брака Катерин и лорда Дьюнедена той весной, но ни одно из них не дало бы всходов, будь я более зрелой, а Эдварда не бесили бы так мои промахи. Мы поссорились из-за Маделин, мы поссорились из-за Катерин, а если бы Аннабель не принимала меры к тому, чтобы жить строго изолированной от нас жизнью, мы бы и из-за нее тоже поссорились. Для нас явно была подготовлена еще и сцена для ссоры в связи с Патриком, но она так и не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств, которые безжалостно вытащили нас из-за кулис.
Первым из таких обстоятельств была перемена отношения ко мне Эдварда. Он после моего вмешательства в роман Катерин совершенно справедливо рассматривал меня как ребенка, сующего нос не в свои дела. Его ошибка состояла в том, что он продолжал относиться ко мне как к назойливому ребенку и после того, как Дерри собрал вещички и уехал в Дублин, чтобы начать свои юридические штудии, и много после того, как Катерин так угодила ему, выйдя замуж за его лучшего друга. Он, конечно, отошел от своей злости; единственная положительная сторона характера Эдварда состояла в том, что обычно долго злиться он не умел, но впоследствии вел себя по отношению ко мне как отец, обремененный капризным ребенком, которого должен с любовью привести к порядку. Он был вполне добр со мной и озабочен, и мне хотелось ему угодить, но, как я ни старалась, Эдвард неизменно оставался эмоционально замкнутым. Я чувствовала, что муж делает большие усилия над собой, исходя из соображений долга, но того самого факта, что он действует из соображений долга, было достаточно, чтобы охладить любые доверительные контакты. Его доброте и озабоченности не хватало души, при ближайшем рассмотрении они рассыпались на части. Он был замкнутым человеком и, несмотря на все его разговоры об одиночестве, очень сдержанным. Поскольку Эдвард мог на длительное время погружаться в свою работу, то предполагал, что другим людям он требуется не в большей мере, чем другие ему. Детям Эдварда приходилось нелегко, а еще больше доставалось его жене, когда к ней относились как к одному из детей.
Меня стали одолевать беспокойство и неудовлетворенность.
Моя ошибка состояла в том, что я скрывала свои чувства. С годами мой страх перед ссорами усилился, а потому, когда Эдвард снова начал, как в первые месяцы брака, учить меня правилам поведения за столом во время приемов, что говорить, какие благотворительные мероприятия поддерживать, какие книги читать, чтобы расширить мой кругозор, я безропотно принимала его советы. Но к этому времени у меня имелись собственные представления по этим предметам, и я считала, что уже нашла наилучший способ общения с его пожилыми друзьями во время встреч. Мое самообладание стало таким, каким стало, потому что я никогда не пыталась быть кем-то другим – только самой собой. Когда Эдвард объяснял мне, какие слова я должна говорить каждому из гостей, у меня возникало ощущение, что он хочет переплавить меня в какого-то другого человека, и мое самообладание, как следствие, пострадало от этого. Я начала страшиться каждого очередного приема, боялась не угодить ему каким-нибудь неосторожным словом, и мое положение становилось для меня все более невыносимым.
Ситуация могла бы взорваться гораздо раньше, если бы наши физические отношения прервались, но первое время, стоило закрыться двери спальни, наша близость расцветала с большей страстью, чем прежде. Меня, как и Катерин, обуяла одержимость угодить ему, а я знала, что в постели я могу ему служить до полного изнеможения. К несчастью, желание радовать его настолько овладело мною, что самой мне редко удавалось расслабиться и позволить ему подарить мне наслаждение, и, хотя долгое время у меня получалось невозмутимо принимать это, досада и беспокойство в конце концов стали овладевать мною.
И опять я молчала. Не осмеливалась. Эдвард спокойно говорил мне, какая для него радость, что я наслаждаюсь этой стороной брака, но если бы я попыталась намекнуть ему, что могла бы наслаждаться сильнее, а недостаток наслаждения отчасти и его вина, это наверняка шокировало бы его. Я не стала ссориться с ним по этому поводу, поскольку не походила ни на одну из этих лихих женщин, вроде моей соотечественницы мисс Блумер, которая считает, что женщины должны говорить мужчине о своих желаниях и даже носить при этом брюки. Я понимаю, что различия между мужчиной и женщиной определяют и разные образы поведения, но должна признаться, что, пока время шло и мои отношения с Эдвардом дрейфовали в бурные воды, мне очень хотелось, чтобы женщины в определенных обстоятельствах имели право откровенно говорить со своими мужьями.
Я даже и представить себе не могу, как долго мы жили бы в таком неудовлетворительном состоянии, если бы не вмешались обстоятельства, которые ускорили развитие событий. Случилось так, что не прошло и двух лет после свадьбы Катерин и лорда Дьюнедена весной 1863 года, как Эдвард без всяких очевидных причин начал страдать импотенцией, и наши постельные отношения, всегда служившие опорой брака, внезапно прервались.
2
Началось все неожиданно, как это и бывает, когда в дом приходит беда. Не получилось у него один раз, затем некоторое время все было хорошо, но потом это случилось еще раз, а потом еще, после чего он отдалился от меня, полностью погрузился в свою работу. Он выступал в палате, заседал в комитетах, работал над новыми статьями, читал лекции по сельскому хозяйству в Дублинском колледже, посетил образцовую ферму в Восточной Англии, совершил краткосрочную поездку в Кашельмару, чтобы убедиться, что в его отсутствие никто не бьет баклуши. Он был занят днем и ночью. И я тоже. Наносила десятки визитов, организовала благотворительный бал, заказала себе новый весенний гардероб, пыталась учить Дэвида говорить и безжалостно держала себя в курсе всех событий. Следила за всеми перипетиями Гражданской войны, словно она происходила на моем заднем дворе, наконец я уже знала все про Роберта Ли и его вторжение на Север. Я во всех кошмарных подробностях изучила поражения при Фредериксберге и Чанселлорсвилле, пережила до последней минуты славную победу при Геттисберге, а в течение лета 1864 года была рядом с Шерманом на каждом шагу его марша к морю. Фрэнсис начал писать радостные письма, а симпатии англичан, на которых наконец Линкольн произвел некоторое впечатление, стали склоняться к северянам. Но англичане, как и всегда, были слишком заняты собой и ограничивались лишь сочувствием. Все говорили о недопустимости использования детей в качестве трубочистов, а вскоре я уже следила за парламентскими дебатами – готовился билль, запрещавший эти злоупотребления. В те дни я читала много газет, и Эдвард, вернувшись из Кашельмары, отметил, как хорошо я осведомлена.
После этого наши отношения улучшились на короткое время, но потом, к моему огорчению, наши беды возобновились, и на сей раз он отказался от своих привычек, никуда не ходил и бóльшую часть дня и вечера проводил в библиотеке. Объяснил, что работает над новой статьей. Внешне он был со мной очень вежлив, но в атмосфере неловкости, воцарившейся между нами, я чувствовала, что муж постепенно отдаляется от меня.
Я не знала, что делать. Хуже того, мне не к кому было обратиться за советом. Есть вопросы, которые просто не подлежат обсуждению с лучшими друзьями или даже с матерью, если она у какого-то счастливчика еще жива. Я осталась одна. Пыталась говорить себе, что все будет хорошо, что наши затруднения пройдут, но, к моему ужасу, мы, казалось, только глубже погружались в трясину отчуждения. А вскоре Эдвард перестал пользоваться способом, позволявшим мне избегать беременности. Он не спрашивал моего разрешения. Просто перестал им пользоваться, а когда я набралась смелости возразить, сказал, что в своих проблемах винит применяемый им способ, который угнетает его. Я впала в отчаяние, ибо больше не хотела детей, и мой страх забеременеть отбил у меня всякую охоту. Я пыталась скрывать мое нежелание, но он почувствовал его и, когда для нас не стало разницы, пользуется он своим способом или нет, в нашем разладе обвинил меня.
В тот момент, когда мое отношение к Эдварду достигло низшей точки, Патрика отчислили из Оксфорда.
Стоял февраль 1866 года. В Америке два явления – война и Линкольн – умерли кровавой смертью, но Фрэнсис уже писал, что на Севере зарабатывают хорошие деньги – идет восстановление; сам он после паники на Уолл-стрит в самом начале войны процветал, и если я соберусь в Америку, то он обещал устроить мне королевский прием. Но о таком визите, конечно, и речи не могло идти. Эдвард работал с утра до ночи и не мог отправиться в подобное путешествие, а уезжать одной, без него, было бы неприлично. Я даже и не предлагала такого, потому что знала: у него будут все основания не дать мне разрешения, но к 1866 году я уже стала подумывать, что временное расставание может пойти нам на пользу.
Расставание, казалось, улучшило его отношения с Патриком. Весной 1864 года Эдвард отправил сына в большое путешествие по Европе с мистером Буллом, а осенью этого же года Патрик поступил в Оксфорд. В течение первого года все шло неплохо, что немало радовало Эдварда. Сомневаюсь, что Патрик хорошо учился, но, думаю, он наслаждался свободой. Однако в последний семестр второго года его отчислили, сообщив в официальном письме, что он отчислен по причине «постоянного пьянства, непристойного поведения, отказа заниматься научной работой и частых прогулов».
Эдвард был в ярости. Что еще хуже – Патрик залез в долги. Азартные игры проделали дыру в его бюджете, и Эдварду пришлось самому ехать в Оксфорд, чтобы оплатить счета.
Через день после его возвращения – в самой черной ярости – он сообщил мне, что дал Патрику две сотни фунтов и запретил в течение двенадцати месяцев появляться в каком-либо из домов.
– К тому же он больше не получит от меня ни пенса, – мрачно заявил он. – Две сотни ему хватит на год, посмотрим, как ему это понравится. И, Маргарет, если он появится на Сент-Джеймс-сквер просить деньги, ты не должна давать ему ни гроша, ты понимаешь? Ни гроша. Он опозорил меня своим слабовольным, отвратительным поведением. Бог мой, что за сын для человека моего положения! Если бы Кашельмара не была майоратом, я бы лишил его наследства.
Он направился в свой кабинет и захлопнул за собой дверь с такой силой, что задребезжал фарфор в гостиной.
Я промолчала. Я вообще мало что говорила ему в последнее время на любую чувствительную тему, которая могла вывести его из себя. Просто старалась как можно реже попадаться ему на глаза, а когда он вскоре уехал в Кашельмару, я, оставшись одна, вздохнула с облегчением. Меня снова захватил вихрь светской активности, а все остальное свободное время я отдавала детям. Томасу почти исполнилось пять, и он был таким непоседливым, что я боялась за несчастную Нэнни, которая непонятно как совладала с ним; даже я, беззаветно его любившая, проведя с ним полчаса, падала от изнеможения. А Дэвид, к счастью, был спокойным ребенком, толстым и безмятежным, как маленький будда, и совершенно безразличным к попыткам Томаса вовлечь его в более энергичное времяпрепровождение.
– Этот глупый младенец… – сердито говорил Томас. – Он никогда по-настоящему не вырастет, никогда. И он толстый.
– Мне нравится быть толстым, – возражал Дэвид. Ему исполнилось три года, и говорил он сочным контральто. – Нэнни тоже толстая. Я люблю Нэнни.
Волосы у Дэвида имели цвет соломы, очень светлой, чуть ли не белой, щеки были розовые, голубые глаза и ямочка на подбородке. Я не переставала удивляться, что, будучи дурнушкой, сумела родить такого ребенка.
Дорогой мой мальчик, думала я, глядя на Дэвида, который улыбался мне ангельской улыбкой, но я сдерживалась и не позволяла себе безрассудной любви. Я боролась и с искушением баловать детей в эти дни и думала, что причина этого искушения – частые разочарования в моих попытках демонстрировать хорошее отношение к другим.
Не прошло и месяца, как Патрик появился на Сент-Джеймс-сквер. Эдвард, вернувшийся к этому времени из Кашельмары, уехал куда-то по делам в карете, а я сидела на кушетке, просматривала корреспонденцию, только что закончила изучение последних обеденных приглашений, когда дворецкий сообщил, что в холле ждет Патрик.
Сердце мое упало. Я знала, что это непременно случится, как знала и то, что Патрик убежден: я не смогу ему отказать.
– Ломакс, – обратилась я к дворецкому, – мой муж, кажется, дал вам указания относительно Патрика.
– Да, миледи. Но мистер Патрик так настойчиво просил встречи с вами, что я счел своим долгом…
– Хватит. Будьте добры, скажите ему, что меня нет дома.
– Да, миледи.
Как только он вышел, я положила перо, бросилась по комнате к окну, распахнула его. Прошла минута, прежде чем Патрик медленно появился из дома, он шел ссутулившись, опустив голову.
Как только Ломакс закрыл дверь, я перевесилась через подоконник и громко прошептала:
– Патрик!
Он повернулся. Я прижала палец к губам.
– Жди в парке, – велела я ему вполголоса и поспешила за шляпкой и плащом.
День был теплый, типично весенний. В саду в центре площади под деревьями расцветали крокусы, чуть покачивались на ветру нарциссы. Я вышла из дому и пересекла дорогу – Патрик бросился мне навстречу, раскинув руки для приветственных объятий.
Трудно передать, что я чувствовала тогда. Я посмотрела на Патрика, и он впервые не показался мне мальчишкой. Его лицо посветлело, когда он увидел меня, и мое сердце перевернулось. Он не был похож на Эдварда и никогда не будет, но я видела в нем Эдварда, молодого, счастливого Эдварда, очень мягкого и любящего, и, глядя на его лицо, такое мучительно знакомое, на его длинные, сильные, идеальные конечности, я испытала жуткое желание, которое с трудом поддавалось обузданию. Я стояла там, раздираемая десятком противоречивых эмоций, и по иронии судьбы именно моя беспомощность и спасла меня. Я не могла ни двигаться, ни говорить, а потому инициатива перешла к Патрику, и я в три секунды увидела, что он, невзирая на все мои иллюзии, напротив, совершенно не изменился.
– Маргарет! – воскликнул он, обнимая меня, как брат обнимает любимую сестру. – Как я рад тебя видеть… и как это мило с твоей стороны, что ты согласилась встретиться со мной! – Он отпустил меня и показал на одну из скамеек, стоящих перед лужком. – Давай присядем.
Я кивнула. Мы сели на скамейку, я крепко сцепила руки и уставилась на покачивающиеся на ветру крокусы.
– Ах, Маргарет, – стенал мой пасынок. – Я попал в жуткую переделку. У меня всего один шиллинг и шесть пенсов, и я остановился в самой отвратительной, какую только можно представить, маленькой таверне к востоку от Сохо, там по кровати ползают какие-то насекомые. У меня в носках дырки, и я не знаю, как их починить, я понятия не имею, что делать с моими грязными рубашками, и ничего не ел со вчерашнего дня, когда купил булочку на Тоттенхэм-Корт-роуд. Ты не могла бы объяснить папе, что я раскаиваюсь за все, собираюсь начать с чистой страницы и буду делать все, что он мне скажет, я клянусь. Только бы он простил меня и предоставил еще один шанс. Пожалуйста, Маргарет! Пожалуйста, попроси его за меня!
Я пыталась найти слова, не осмеливаясь посмотреть на него. Я остро ощущала его бедро в трех дюймах от моего плаща.
– Я проиграл двести фунтов, которые он мне дал, – продолжал Патрик. – Думал, что легко смогу превратить их в тысячу, чтобы без проблем прожить год… и знаешь, вначале я выиграл довольно много денег…
Среди нарциссов танцевала белочка. Из кустов появился черный кот и, сев, принялся вылизывать лапу.
– …и тогда я поехал в Ирландию, и Аннабель одолжила мне немного денег, но она устроила мне такую головомойку, что я больше не хочу к ней возвращаться. Я добрался в Дьюнеден-касл, но эта несчастная Катерин даже не пожелала меня видеть, передала мне, что я в черном списке у папы, хотя Дьюнеден дал мне пять фунтов, чтобы я мог ехать дальше. И я оттуда отправился в Дублин к Дерри – побыл у него какое-то время, но, господи боже, не могу же я доить его вечно, верно? Это просто было бы неправильно, да? У Дерри денег на себя едва хватает, потому что папа ужасно ограничивает его содержание. Дерри хотел, чтобы я остался, но это было невозможно. Вчера вернулся в Лондон, и, боже мой, Маргарет, я не знаю, что со мной будет, если ты мне не поможешь. Что мне делать, черт возьми?
– Я поговорю с Эдвардом, – пообещала я.
– Ах, Маргарет… – Он еще раз обнял меня. Я ощутила прикосновение его бедра и левого бока. – Ты так добра ко мне, Маргарет.
Я встала и пошла прочь, чувствуя себя так, будто у меня тепловой удар.
– Ты не можешь остаться еще? – умоляющим голосом спросил он. – Я столько времени ни с кем не мог поговорить.
– Мы побеседуем с тобой позднее, – пробормотала я. – Но я должна обсудить все с Эдвардом. Где, ты сказал, твой отель?
– Мерсер-стрит, близ Севен-Дайалса, только не езди туда, Маргарет. Это ужасное место, оно не годится для леди.
– Я пошлю туда человека, – бросила я и ускорила шаг, прежде чем он опять попросит меня остаться. Я даже не вернула ему его расстроенное «до свидания». Просто со всех ног поспешила в дом, а когда добежала до своей комнаты, то попыталась представить, как набираюсь смелости, чтобы поговорить с Эдвардом о его сыне.
3
Вскоре домой вернулся муж, я все еще оставалась в своей комнате и о его возвращении узнала, услышав, как открылась дверь гардеробной, хотя даже тогда я сначала подумала, что это слуга Пиарс, но потом услышала его характерное покашливание. Вскоре раздалось несколько негромких звуков в знакомой последовательности: звяканье стакана, затем бульканье жидкости, наливаемой из бутылки. Я была озадачена. Что он может делать? Насколько мне было известно, он не принадлежал к тайным выпивохам, над которыми потихоньку посмеиваются друзья. Я оставалась на своем месте, ошеломленная, но инертная; наконец он без предупреждения открыл дверь между двумя комнатами и вошел.
Заметил он меня не сразу, а поскольку думал, что его никто не видит, не делал никаких усилий, чтобы не сутулиться, выпрямить плечи и идти своим обычным резвым шагом. Он шел медленно, прихрамывая. Горбился. Из-за этого казался странно невысоким, а поскольку наклонил голову, я впервые обратила внимание, что его волосы совсем поседели. Лицо Эдварда бороздили морщины усталости, брови сошлись на переносице – признак дурного настроения, и в целом он выглядел старым.
Я никогда не видела его таким и, прежде чем успела одернуть себя, стала сравнивать его с Патриком, вспоминая во всех подробностях юного пасынка, с его здоровьем и жизненной силой.
Эдвард увидел меня. И сразу же изменился. Распрямил плечи, спину, ускорил шаг, но это стоило ему немалых сил. Я заметила, как это усилие отразилось на его лице, прежде чем Эдвард успел прогнать все красноречивые признаки усталости, вымучив вместо них вежливую улыбку.
– Извини, – буркнул он. – Я понятия не имел, что ты отдыхаешь, если бы знал – не стал бы тебя беспокоить. Я возвращаюсь в гардеробную.
Он ушел, но я уже поднялась и поспешила за ним в гардеробную, увидела, как муж садится на диван.
– Эдвард… – начала я, но поняла, что не могу продолжать.
Он встал, непреклонный и прямой, вежливо ждал, что я ему скажу.
Мне в голову приходили десятки слов, но я отвергала одно за другим и все еще отчаянно искала нужное, когда он сказал неровным голосом:
– Полагаю, ты хочешь поговорить о Патрике. Ломакс сообщил мне, что сын приходил утром.
– Приходил. – Я так нервничала, что слова никак не давались мне, а он тем временем добавил:
– Увидел, как вы вдвоем гуляли по парку, и, чтобы не смущать вас своим появлением в неподходящий момент, приказал Лейси отвезти меня в клуб. Надеюсь, вы сказали друг другу все, что хотели.
Я тут же впала в такую панику, что могла только испуганно смотреть на него. Лицо у меня словно горело огнем.
– Я заметил, как он обнял тебя, когда вы сидели на скамье, – добавил он. – Все слуги тоже наверняка насладились этим зрелищем с их трибуны из окна холла.
Я ничем не провинилась перед ним и могла бы вполне достойно защитить себя от этих инсинуаций, будь хоть сто раз испугана, но мои тайные мысли заставляли меня вести себя так, будто я и в самом деле совершила ужасающий грех.
– Что ж, я некоторое время ждал, что это случится, – бросил он вскользь, словно его это совершенно не волновало. – В конечном счете чего другого я мог ожидать? Понятия не имею, случилось ли между тобой и Патриком в прошлом настоящее непотребство, но это вряд ли имеет значение. Если ты не согрешила с Патриком, то теперь уж наверняка с кем-нибудь другим. Отлично. Я это принимаю. Да и как могу винить тебя в этом, если я столь длительное время не являюсь полноценным мужем. Я, конечно, мог бы впасть в ярость и повести себя как какое-нибудь чудовище из мелодрамы – и нет сомнения, что многие в моем положении гордились бы таким поведением, – но я считаю себя человеком практическим и надеюсь, что не настолько бесчестен или исполнен гордыни, что не могу не признать свою, а не твою вину в случившемся. Мне очень жаль. Я не должен был жениться на тебе. Несправедливо полагать, что молодая девица может оставаться счастливой с человеком моих лет, и теперь понимаю, что ждал от тебя слишком многого. Что ж, будь как будет. Ты дала мне шесть лет идеального счастья, и с моей стороны было бы чистой неблагодарностью, если бы я теперь ответил тебе злобой и недовольством. Ищи удовлетворения где угодно, если тебе это необходимо, но… – Эдвард замолчал и больше не смотрел на меня. Он оставался сдержанным, но теперь был вынужден отвернуться. – Только не с моим сыном, – быстро добавил муж. – Только не с ним. Я попытаюсь не замечать никого другого. Я тебя люблю и желаю тебе счастья. Ничто, кроме этого, не имеет значения.
И ничто теперь и в самом деле не имело значения. Патрик больше не имел значения, молодые мужчины не имели значения, ни один другой человек не имел значения.
– Ах ты, глупый, глупый человек! – Я поцеловала его, обняла за шею, прижала к себе со всей силой, какая у меня была. Кажется, он тоже заплакал, но я не хотела этого знать, потому что мужчины, а в особенности англичане, не должны плакать. – Пока ты меня любишь, мне все равно. Я не знала ни одного другого мужчины и никогда не узнаю, пока ты по-настоящему любишь меня.
– Я тебя люблю, – сказал он.
– Тогда все хорошо.
– Все?
– Господи боже, – ответила я, – разве же любовь – это только возня на широкой кровати?
Он рассмеялся. Я так давно не слышала его смеха, и мне казалось, что я только встретила его после долгого и мучительного отсутствия. Все напряжение между нами исчезло. Наши пальцы соприкоснулись, соединились, и вскоре я имела все, что хотела, и он тоже, и наша изоляция на темных границах отчуждения превратилась в мертвое воспоминание.
Эдвард проснулся раньше меня. Когда я открыла глаза, он смотрел на луч света сквозь щель в шторах, и его брови снова хмуро сошлись на переносице.
– Что случилось? – сразу же спросила я.
Он быстро убрал хмурое выражение с лица:
– Ничего. Нога у меня в последнее время побаливает. Утром я опять ездил к врачу, но, хотя он и дал мне какое-то новое лекарство, пользы от него пока никакой.
– Так ты это делал в гардеробной? Я слышала, как из бутылки наливается лекарство. – Я поцеловала его, с тревогой осмотрела его ногу. – И давно это тебя беспокоит? – спросила я и вдруг поняла все: его прошлые затруднения в постели, несвойственное ему нежелание путешествовать, его занятия, его дурное настроение. Я пришла в такой ужас, что села на кровати столбом. – Эдвард, ты хочешь сказать, что у тебя эти неприятности с тех самых пор…
– Боль нерегулярная. Она не беспокоит меня постоянно. Я не видел нужды говорить тебе об этом.
– Но, Эдвард, ты же знаешь, как я не люблю мучеников! – Я рассердилась и расстроилась. – Ну почему ты мне не сказал об этом с самого начала?
– Не хотел.
– Но почему?
– Потому что не хочу выглядеть в твоих глазах стариком, – признался он и добавил с иронией, чтобы смягчить горечь: – Я в молодости презирал стариков, которые постоянно жаловались на свои болячки.
– Я не могу представить, чтобы ты жаловался. Не глупи! И вообще, что такого стыдного, если у человека что-то болит? Я могла бы понять твою скрытность, если бы ты болел какой-нибудь конфузной болезнью, типичной для пожилых джентльменов, но…
– Это не просто какие-то болячки, – пояснил он. – Это артрит. Ты помнишь, вскоре после Катерин у меня случилась горячка с болями?
– Да… но ты же поправился.
– Некоторое время я чувствовал себя неплохо, но потом боли стали повторяться. – Он помолчал, прежде чем продолжить. – Доктора говорят, тут медицина почти бессильна.
Его тон заставил меня похолодеть.
После паузы я твердо сказала:
– Ну что ж, от артрита ведь не умирают, верно?
– Насколько мне известно, нет.
Но потом я поняла: он думает о том, что будет значить для него смерть при жизни, существование в кресле-каталке, и очень испугалась. Этот страх, вероятно, отразился на моем лице, потому что Эдвард тут же весело сказал:
– Сейчас это всего лишь неудобство, и нет никаких оснований предполагать, что ситуация радикально ухудшится. Доктор Ивс был вполне оптимистичен, когда я встречался с ним утром.
– А почему ты ездил к нему? Он должен был приехать сюда! – воскликнула я, но тут же поняла. – Ах, если бы ты не был таким скрытным!
– Да, теперь я понимаю, что это ошибка.
Он смотрел, как я одеваюсь, не предпринимая попыток подняться с постели, и я поняла, что Эдвард ждет, когда я уйду, чтобы он мог одеваться без спешки, как того требует его скованность. Я надевала верхнюю юбку, когда он неожиданно спросил:
– И что сказал Патрик в свое оправдание? Ты можешь передать мне?
– Боже милостивый, я начисто забыла. – Я поразилась тому, что все мысли о Патрике оставили меня. – Эдвард, он совершенно без денег и ужасно несчастен. Он просит прощения. Клянется начать все с новой страницы.
– Да, у него вошло в привычку давать эти клятвы. Продолжай.
– Говорит, он сделает все, что ты скажешь.
– Это все хорошо, но я понятия не имею, что хочу с ним делать. Думаю, пусть живет потихоньку в Вудхаммере, пока я не куплю ему чин в армии. В Вудхаммере, по крайней мере, он вряд ли наделает долги.
– Но, Эдвард, ты и вправду думаешь, что Патрик годится для армейской карьеры?
– А что еще я могу для него сделать? Он ведь должен чем-то заниматься. Я не одобряю молодых людей, которые ведут бездеятельный, бесполезный образ жизни.
– Может быть, если ты наделишь его ответственностью за какую-нибудь свою собственность, он заинтересуется управлением недвижимостью?
– Этого никогда не случится, – горько пробормотал Эдвард. – Патрик никогда не заинтересуется управлением недвижимостью.
Я поправляла волосы; сосредоточившись на вкалывании шпилек в нужные места, я осторожно сказала:
– Уверена, что с Патриком со временем все будет хорошо, потому что в душе он очень… – Мне не приходило в голову подходящее слово. – Я хочу сказать, что знаю – он неуправляемый, но не все ли молодые люди отдают дань разгульному образу жизни? А Патрик молодой и… незрелый. – Я плохо зашпилила волосы. Шиньон обрушился под сеточкой, и мне пришлось начать сначала. – Патрик в душе очень спокойный, – добавила я вдруг. – Спокойный – вот именно это слово я искала. Думаю, он больше всего хочет ответственности за какую-нибудь собственность вроде Вудхаммера и жить там спокойно с женой и детьми. Да, подумай, как бы хорош был Патрик с детьми! Томас и Дэвид его обожают. Он наверняка хочет, чтобы у него когда-нибудь появились дети, а когда женится и осядет… – На сей раз мне удалось правильно зашпилить волосы. Теперь, когда шиньон не носили низко свисающим на шею, укладывать волосы стало труднее, даже если у тебя имелся немалый навык. Если бы наш разговор не был таким семейным, я бы позвала горничную. – Патрику нужно жениться, – заключила я. – Не сразу, конечно же, потому что он еще очень молод, но через год-два. Да. Патрик должен найти какую-нибудь хорошенькую девицу, которая знает, чего хочет, и которая будет заботиться о нем и сдерживать его. Вот именно, Патрику нужна жена, которая будет заботиться о нем и сдерживать его. Я точно знаю, на девице какого типа он должен жениться…
– Маргарет, – строго произнес Эдвард, но когда я испуганно повернулась к нему, то увидела, что он улыбается. – Когда ты научишься не вмешиваться в жизнь других людей?
– Но я же с добрыми намерениями! – воскликнула я, смеясь вместе с ним, и бросилась через всю комнату в его объятия.
Позднее он сказал мне.
– Возможно, ты права насчет Патрика. Конечно, ничто не могло бы порадовать меня больше, чем если бы он наконец угомонился и заинтересовался имениями. – Он помедлил, но сумел пробормотать: – Извини… за то, что наговорил вчера… глупо с моей стороны.
– Это не имеет значения. Я тебя очень люблю и знаю, что и ты меня любишь. Но я тебя прошу на будущее: обязательно говори мне, когда у тебя боли. Не держи это в себе, не проявляй такого благородства, потому что я же не могу тебе помогать, когда ты отвергаешь мою помощь.
– Хорошо. – Он улыбнулся. – Буду тебе жаловаться время от времени. Готов пообещать тебе все, Маргарет, даже это.
Мы расстались. На сердце у меня стало легче, и я с радостью побежала наверх, в детскую, и, только заглянув позднее в гардеробную и увидев бутылку с лекарством, снова почувствовала холод во всем теле. Постаралась прогнать это ощущение, сразу же выйдя из комнаты, но весь день меня преследовало слово «артрит», и мне казалось, что мы стоим на границе тьмы, которая тянется вдаль, на сколько хватает глаз.