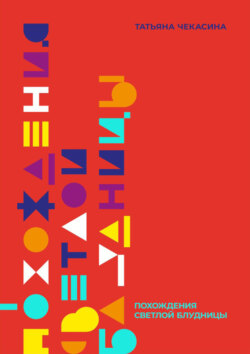Читать книгу Похождения светлой блудницы - Татьяна Чекасина - Страница 8
Истории
Ничья
ОглавлениеИстория первой любви
Это с ней впервые. Как накатит… Она видит голое тело любимого человека. Раньше никогда не то, что не видела такого, не представляла. Ни пропорций, ни форм. Погружается в омут, выныривает, и опять на дно, туда, где его голое мокрое тело. О, нет, она умрёт, она не выдержит пытки!
В школе было беззаботно! И в этом году там уроки… Немного пахнет краской. В коридоры долетают вдалбливания. Преподаватели говорят громко и уверенно, наперебой агитируя идти дорогой той науки, которую преподают. Ей не вдолбили ни одной. Но под видом лаборантки она в Научно-исследовательском институте. Пытается копировать чертежи. Вернее, один (тройка по черчению). Но зав лабораторией Сажинский притворяется: она делает успехи.
Войдёт (он в отдельном кабинете), встанет близко:
– А ведь неплохо? Но… Давай-ка Нину! – Набирает внутренний телефон.
Нина мигом (комната рядом), иногда и к мужу корейцу. Тот обучение терпит, он спиной. Второй, Пахомов, не так терпелив.
Нина не кореянка, но видок – к зеркалу не подойти… И люди – зеркала. Томасик (домашнее имя, тут для некоторых) наблюдает отражение в игривых глазах Пахомова, в робких – Сажинского… Он очки сдёргивает, дабы не ослепнуть.
– Верхний блок надо бы копировать первым…
И копирует… Линии гладкие, плотные, как натянутые нити.
– Чудно! – Томасик плавно двигает пальцами над калькой, оглядывая свои великолепные ногти.
– Ну, понятно? – тихо говорит Нина и тихо уходит.
А Сажинский тут. Явно нюхает её духи.
Она рейсфедер – в тушь, рука дёргается… Кап! На аккуратно обведённых Ниной коробочках и трубочках пятно.
– Неинтересно! Это не в моём духе!
– Н-да, – не теряет оптимизма руководитель. – Пахомов, бери Томасика в подвал!
Опять он… Раздет… Тревожит. Когда одет, ей куда спокойней. На нём костюм цвета бетона. Как на других. Но когда голый (в её памяти) необыкновенный… Нет, наиболее правильный вариант – умереть!
Она в НИИ из-за матери Веры Алексеевны. Форменный обман, форменный капкан. Их дебаты начались, как только Томасик обрела аттестат. Трояки. Кроме двух пятёрок по русскому языку и литературе. Мама эти две отметки не видит, будто их нет.
– Специальность будет!
– Меня тошнит от физики и математики.
– Томасик, но моя зарплата…
– А ОН нам не будет помогать?
– ОН будет. Но тебе не пять лет и…
– …и должна вкалывать. Ну, так я найду выход.
– И где ты намерена вкалывать?
– Ищу варианты.
Обманывает. Вариант найден.
Галка Мельникова секретарша. Обстановка деликатная. Недавно любая училка могла наорать, «поставить на ноги» (можно ещё на что-либо поставить?) И ей бы в такую приёмную, где она, модно одетая, волосы, как у кинозвезды, «вкалывает» минимум. Молодые элегантные мужчины-коллеги предлагают в театр, в кафе, прокатиться на автомобиле…
Вера Алексеевна об этих чудовищных планах не ведает. Она много лет выявляет наклонности ребёнка. Не выявила. В техникум и то не определить на учёбу, куда она ходит на работу.
Хватает телефон:
– Гуменникову поклонюсь!
На новую квартиру в центральном районе они переехали из деревянного дома, где пахнет кошками (у мамы аллергия). Тогда мать впервые называет эту фамилию: «Если б не Гуменников…» «А что он сделал?» «Помог», – ответ краткий. Но и в будущем краткие ответы.
…– Добрый день, Илья. Колясникова… – Натужная улыбка. – Ты большой человек, Илья… А мы, маленькие, – к тебе с делами-бедами, – алеет, бледнеет, пальцы стискивают трубку, вот-вот хрумкнет, как хлебная сушка.
Нехарактерное волнение. Мать кто-то между вдовой и старой девой, а тут не официальные интонации.
Наутро она долго одевается. Лепит причёску.
– Делай проще! – нетерпеливо велит дочь.
– Так нормально?
ЦНИИС, Центральный Научно-исследовательский институт строительства в огромном бетонном кубе с огромными окнами. Приёмная больше той, в которой Галка. Секретарь немолодая тётя. В деревне, где у них домик, так выглядят доярки. Не хотят ли её заменить молодой шикарной девицей?
Гуменников – вот это да! – директор! Немолод, но внешность… Киноактёр! Или режиссёр. Эти виды работ её волнуют. Какое-то время уверена: путь в театральное.
– Верочка! Рад! А это – Тамара?
Слегка обнимает мать, дочь… Теплоты нет, вроде. Одеколон импортный, куревом не пахнет.
– Ох, Илья, у тебя и без нас дел…
Пьют чай. У Гуменникова благородные манеры: помешивает ложечкой, отпивает глоток…
– И конфеты не ешь?
– Много внимания фигуре. Математике – минимум, – мать не нудно говорит, не дома.
Вечером ставит на проигрыватель вокализ Рахманинова.
…В коридорах НИИ (в первое время таинственных), увидев Гуменникова, Томасик, как дитя перед любимым папой. Да и он рад! Как дела? Нормально. Вокруг него аура обожания. Многие влюблены. Он помнит имена и научных работников, и лаборантов, и уборщиц. Будто отец в заботе о семье.
У Гуменникова губы сизые. Больное сердце. «Если бы ему молодое…» (говорит мать). Томасик иногда готова плакать от нежности к этому человеку. Она любит его, вот бы подошло ему её сердце…
Дома хвалит: культура, такт, а доброта!
Мать кивает.
– Наверное, второго такого руководителя нет!
– Фантазёрка. И я об Илье Ильиче немало нафантазировала.
Будет откровение, но нет. Байка от третьего лица:
– У нас в одной группе на факультете он и она любили друг друга. Он ей кольцо дарит, она верит ему: окончат институт и оформят отношения. И вот дипломы… Он едет к родителям буквально на неделю. Но проходит и две, и три недели… Женится там! А у неё …ребёнок. Это её первая любовь…
– Мама, а кто родился, сын или дочь?
– Не важно.
– Мама, а кто мой отец?
– Никто.
– Мама, а я – чья дочь?
– Ничья.
Новая одежда куплена на деньги, выданные в НИИ. На питание зарабатывает мать. Преподаёт в техникуме, как репетитор на кухне долбит с абитуриентами математику. Ну, и ОН. Кодовое имя папаши, никогда его не видела. Отчество и то умершего деда, они с матерью прямо сёстры, обе Алексеевны. Деньги от него регулярно.
Идут в подвал с Пахомовым. Тот напоминает: он – Эдик. Её мнение: в годах, тридцать пять. Эдуард, как минимум, а для неё и Эдуард Михайлович. Но, ладно, Эдик, так Эдик.
Демонстрационный зал. Работает жуткий агрегат. Грохот неимоверный. Ад без окон. Мигают дисплеи. Пахнет горячим камнем, который и на полу. Пыль – пеленой. Эдик и двое его коллег орут друг другу у экрана осциллографа. Там кривая молния. Тычут пальцами в ленты миллиметровки. Дробилку вырубают, оглушительно тихо. Голоса ненормально громкие.
У Эдика новый рулон:
– Я тебе докажу! – и – по камням к двери.
За ним его коллеги.
У неё тоска одинокого ребёнка. Камни царапают лаковые каблуки. Те, кто впереди, бурно говорят… Выход на первый этаж через люк. Люков много. Побаивалась, но привыкла. Не нырнуть ли в люк, да на опытный? Ладно, не будет подводить Пахомова Эдуарда Михайловича…
В комнате парты. Эдик пишет на доске латинские буквы и цифры, мелом осыпая пиджак. Выкрикивает непонятные термины. Один из мэнээсов (младших научных сотрудников), вроде, не реагирует, но и он берёт мел…
Пахомов довольный:
– Убедил!
Что кроется за формулами? Далеки «страсти» от нудных предметов физика и математика… Вдруг он видит её, но не понимает, откуда она тут. Подсев, ликующе:
– В филармонии новый орган, хоралы, матушка, хоралы! Ты как? Или новые ритмы?
Глядя на руки, белые от мела, она отодвигается. Он вновь к тем, двоим, а ей опять копировать камнедробилку…
Уныло ведёт линию. Криво! Лицезрение агрегата не добавило энергии.
Влетает Пахомов, полный эмоций.
Спина корейца:
– Ну, ты кипишь!
– На заводе именно этот измельчитель! Рамы на окнах вибрируют! – И сам, будто камнедробилка.
Борьба с вибрацией, методы снижения их при работе агрегатов – главное дело их жизни. Не умолкают споры, крошится мел…
– И охота вам, – ляпает она.
Кореец – фасадом…
– Там работают люди! Их колотит, как у нас в подвале! Рабочие умирают молодыми! – ораторствует Эдик. – А не взять ли мне тебя на гипсобетонный завод в командировку?
В ответ улыбка мудрой царицы Тамары: не трудно догадаться, зачем в командировке младшему сотруднику младшая лаборантка.
Телефон: Галка.
«Томасик, у меня отпад! Генка сделал предложение. Замуж выхожу!»
Генка не Генка, а Геннадий Анатольевич в том институте, где Галка. Заведующий лабораторией (завлаб, не мэнээс) уходит от старухи и двоих детей! Такой быстроте может позавидовать Пахомов, готовый в темпе ликвидировать вредные вибрации на территории огромной страны. Галка против Томки – пугало. Когда они рядом, никто никогда и не глядит на Галку.
– Когда свадьба?
«Не решено, – лениво, как матрона. – Ну а у тебя?..»
– Что «у меня»? – Она ведь говорит подруге то, чего не говорит матери: – Нам надо не так мало времени… – и видит мимику Эдика, да и спину корейца… Они знают! А вдруг и весь ЦНИИС? – Наберу из дома.
Опять накатило… Опять она голая под душем с мужчиной. Он не только голый, а невообразимо откровенный… Какие-то минуты она видит его. О, нет! Выпить бы какой-нибудь препарат от… любви.
С ней впервые. Она непреступная красотка – репутация в школе и в обоих дворах, и в их, и в соседнем. Мальчики, потом юноши; у дома караулят, бегут за ней! Ха-ха-ха! Но, ладно бы, недозрелый контингент…
У них в классе режиссёр говорит об увлекательной работе и увлёкся: не отводит глаз от Тамары Колясниковой. Лекцию отбарабанил, ловит её в коридоре. Уверяет: ей надо в театральное училище, где он ведёт уроки! Приходит она. «Показ»: авторитетные дядьки и тётки требуют басню, стихотворение, танец… Этот тип с двойной фамилией Соколов-Майский готовится протежировать ей на экзаменах. В итоге кривит лицо. Такие мины и у его коллег. Ему от них нагоняй: отнял время. Но он и на дому даст ей урок.
Звонит: «Я буду на катке». Там он, твёрдый на коньках, надеется, что старшеклассница на льду так же неумела, как в танце и декламации. Готов катать Колясникову, как в коляске. Но она, уверенная, то убегает, то толкает его, пугая. За кофе с булкой в буфете катка глядит, не мигая в лицо этому не молоденькому козлу до его умопомрачения.
На дому краткий урок декламации. Второй пункт его плана – объятия. Но, увы! «Да ты фригида!» Она убегает, и неприятно: он прав! Да-да, неполноценная! Она не покорна чьей-то воле, а, тем более, воле мужчины. Другое дело – крутить им так, чтоб он крутился, как не утративший навыков фигурист… В тайной книге (передавали друг другу девчонки в классе) явление упомянуто. С матерью – ни-ни. Вряд ли могла открыть книгу «Половая жизнь в её многообразии».
И вот ЦНИИС… Один, второй, третий… Зовут в кино, в кафе, в филармонию «слушать хоралы», на стадион… Какой спорт их интересует, она догадывается. Умело и вовремя линять – годами отработанный ею кульбит.
Другое дело он. Увидеть бы! Легче, когда увидит (одетым)…
Идёт из лаборатории вибраций мимо других лабораторий. Она чужая громадному НИИ, его людям, увлечённым дробилками, коррозией металлов (да-да!) и стеновыми панелями…
Готова к рыданиям, но у опытного завода крепится: надо войти с нормальным бодрым лицом. Ворота открыты, панелевоз с новой панелью. Их делают на гипсобетонном предприятии, куда Эдик намылился ехать не один…
В неуютном ангаре (окна ограждены решётками с внутренней стороны) ведёт испытания старший научный сотрудник Ничков, заведующий лабораторией стеновых панелей (профильная лаборатория института).
Да, знают! Хотя она – коротким путём люками. Вроде, не догадались пока о цели! Как Сажинский: «У Ничкова работа более наглядная. Мы подумаем о твоём переводе» Ещё не хватает! Ничков и так хоть сегодня возьмёт её, уволив Аню, но у него лаборанты, как работяги.
Недалеко от входа люк, открытый в подвал.
– А, Томасик! – У Ани грубое контральто, она в тёмном платке, в пыльном халате, сцепляет провода датчиков. – Будем испытывать!
На столе измерительные приборы.
– Да? Вот эту? – Томасик догадливо кивает на панель: делает вид, – интересно.
Другой лаборант, Женька, латает трещины. Блок со следами мазни выдвинут в центр опытного зала.
Оба охотно говорят о работе. Рвение, как у Эдика Пахомова. Женька: «Такие испытания впереди! А мне в армию». Почему она тут, догадываются, делая вид, что нет.
– Вон та лопнула, осколок Ничкову в шею! А нас ругает, чтоб не лезли под стенд… – Трубит Аня, до чего непонятное существо!
Он будет, наверняка, ведь она бы намекнула. Да и готовит к испытаниям сам.
– Куда ты этот датчик?
– Павел Владимирович здесь велит! – Женька (наоборот) говорит пискляво.
Они называют руководителя полным именем и на «вы», она уменьшительным и на «ты». Она – диковинный цветок в огороде этих овощей.
…В то утро в кабинете Гуменникова… Мол, для неё фигура и наряды – главное, а вот Бином Ньютона… Мать кается: неправильно воспитала дитя, не выявила наклонностей. Мимоходом добавляет: «вроде, грамотная». Но, главное: благодаря профориентации в школе, печатает «слепым методом»! Да, да, не двумя пальцами! Насчёт грамотности верно, а вот о «слепом методе» – гипербола. Но мама старалась! В техникуме выкидывают машинку: одни литеры западают, другие ударяют криво. Кое-как втащил в квартиру водитель такси. Найден дед золотые руки. Литеры выгибает… «Тренируйся!»
Когда матери нет дома, она тремя пальцами тюкает. Да, так много, целый рассказ о том, как у девочки никогда не было папы, но идут годы, и её признаёт дочерью не кто-нибудь, а космонавт, любивший маму тогда, когда космонавтом не был. Не открывает математику и физику, не волнует Бином Ньютона, но так интересно, как два родных человека, наконец, встретились на этой, далёкой от космоса земле… Папка упрятана в ящик под игрушки. Отыгранные ею куклы охраняют тайну, которая и выведет на дорогу любимой работы.
Гуменников велит пригласить зав машбюро Маргариту Савельевну… «Это временно. Как уйдёт лаборантка из лаборатории вибраций, а она дорабатывает, ты перейдёшь на её место. Зарплата там выше», – обещает (и выполнил). Но учиться, учиться и учиться… Этой мантрой мать и директор итожат её оформление на работу.
Лаборатория вибраций… Ей нравится наименование. Не «коррозий металлов». В эту нацелилась машинистка Попкова, там у неё сестра, кандидат наук. Печатает медленней, но упорна. От её укоренения зависит, уедет ли она в родную деревню Поповку или будет лаборанткой. И чего в деревне ей не так? Маргарита Савельевна ограждает робкую Попкову, мол, Тамара – избалованный ребёнок и, вроде, племянница Гуменникова. Информация «подтверждается»: завхоз вносит электрообогреватель.
Лето, но говорят: лета не будет. Дождь день и ночь. В окно видно, как падает на тротуар вода, а над домами туча – огромный резерв.
Она у рефлектора… Тот, кто входит, в первый момент видит прекрасные ноги в мелких кокетливых туфельках.
Именно так и видит Ничков:
– У нас новенькая.
– Томасик! – Крепко накрашенные ресницы над очами, крупными, играющими.
В машбюро – Тамара (отрекомендовал Гуменников).
Ничков глядит оторопело (для неё вполне ожидаемый эффект).
– Паша. – Но ему неловко, что так назвался.
Она печатает. Вроде, нормально, но, держа марку «слепого метода» (и руководительница машбюро не умеет), путает буквы. Вместо «а» «п», не «о», а «р»… Ну, буквально, как слепая! Иногда целые абзацы… И «прозревает» перед приходом автора, листая «готовое». Не готовое! Это непоправимо!
Он, бегло глянув:
– Спасибо.
Выходит. Она выбегает. Его худая фигура в конце коридора. В комнате он один, бумаги на столе. В лице неуловимое.
– Дайте, я заново, – кивает на папку. И робко – в кресло.
– Да, ладно… – он поднимается, огибает стол и – на ручку этого кресла.
Обхватив руками её голову, целует. И – обратно за стол. Лицо бледное от волнения.
У неё звон в ушах…
– Я отдам, будто другая статья.
Она уходит: ноги в тонком капроне почти голые. Оглянулась, а он и не смотрит. Колдовство. И – долгоиграющее.
Она бегает за ним. Большего позора нет… Другое дело, – за ней. Бывало в один вечер трое. Мать откроет: «Можно Тамару?» Она – с дивана: «Учу уроки!» Второй, третий… и на работе…
Наваждение: перепутанные буквы, первый поцелуй… И она раба того, кто так целует. Не отойди он от кресла, могло быть всё, минуя её волю. Вывод: воля в голове, а не в теле, и тело не союзник головы, а наоборот. Иногда она в панике: головы нет, только тело. Оно пугает. Никакой фригидности.
«Не пойду к нему! В лабораторию не пойду!» – Хоть бы не услышала мать, как она плачет. А на утро вновь… На дверях: «Лаборатория стеновых панелей». Дверь открыта, рядовые научные работники тут, а зава нет. «Он на испытаниях». И она идёт на опытный завод. Там испытывается она, неопытный Томасик.
– Добрый день, – с неопределённой улыбкой Ничков, хлопает крышкой люка:
– Опять открытый? Женя?!
– Извините, Павел Владимирович…
– Ну, как ты?
Ответить бы «плохо», но робеет от его улыбки, глядя с отчаянием доведённого до крайности ребёнка.
– Куда ты – этот датчик?!
– Ну, вот, что я тебе говорила… – гудит Аня.
Ничков и Женька центруют блок на стенде.
– Навешивай! – отряхивает руки.
Лаборант прёт гири, и на прутья крепит первые грузы. От панели, облепленной датчиками, тянутся к приборам провода.
На шкале бегает стрелка. Аня фиксирует показания: длинные колонки цифр.
– Эта выдержит? – с деланным участием.
– Твои слова да богу б в уши, – басовитый отклик лаборантки.
А Томасик не видит панелей, от которых добиваются необыкновенной стойкости, лаборантку у стола, лаборанта, пробежавшего к люку в подвал за какими-то дополнительными гирями, и как он вынырнул, не видит. Она глядит, не открываясь, на Ничкова, трогает пальцем его щеку.
– Да, вывозился, – он вытирает пыльное лицо пыльной рукой.
– Паша, ты доволен?
В этот момент она, наверняка, более красивая, чем обычно, и готова например, к такому ответу: «Да, ведь есть ты».
– Тут дело!
И говорит (не то). О каком-то другом институте, где никакого дела, много бумаг. Умный руководитель Гуменников…
Ей грустно! В длинных пальцах (ногти сверкают перламутром) вертит ненужный проводок…
– Павел Владимирович! – фальцет Женьки. – А на эту сторону увеличить нагрузку или потом?
– Иду! – и он идёт к лаборанту.
Солнце, в воздухе цементная пыль. Проводок крутит, кидает… Вдруг одна нога – над пустотой. Балансирует, но… И догадывается: с ней нерядовое. Она падает…
…Томасик маленькая днями одна. В квартире телефон. «Мама, ты когда?» «У меня заочники…» Дома где-то в девять, но на кухне долго проверяет контрольные: свет под дверью. «Мама, а ты когда ляжешь?» «Спи, мне некогда».
Ныне предлагает: «Давай поговорим по душам…» Отужинали. И от беседы «по душам» не застрянет в горле купленная в «кулинарии» котлета.
– Как ты могла где-то там оступиться? На работе надо быть внимательной, аккуратной, не тратить время на посторонние разговоры, чётко выполнять обязанности…
Опытный педагог, наготове блоки фраз, говоренных годами. Когда она так начинает «по душам», дочка делает непроницаемую мину. Думает о том, как выпросить денег на одежду, туфли, бельё.
Вдруг не блок:
– …ты, наверное, влюбилась, будь откровенной… Гуменников тебя старше на двадцать пять лет…
– Что?!
– Илья Ильич не отразим… – А глядит мама с ненавистью!
Ха-ха-ха! Ну, и ну! Одноклассницы: «Томка, ты влюбилась в Вовку (в Петю, Игоря, Вадика)»? Она в упор не видит этих ребят, но ревнуют к ней. Цирк: мать ей напоминает ревнивую школьницу! Первая любовь! У Тургенева, вроде, и отец, и парень любят одну девчонку.
– Да, мама, любовь, – тихо, будто кроме них в квартире подслушивающее устройство. – Это пытка… Я, волевая… была… – И днём, до падения, хотелось рыдать. – Я не могу, не могу терпеть эту любовь! У меня нет энергии её терпеть! – выкрикивает и, наконец, рыдает.
У матери в лице: «какая-то комедия?» Но нет, правда. Да, такая правда! Синоним горя и… любви. Когда откровение озвучено, не только мать, но и она понимает, до чего это правда.
Мама горда её неприступностью. И вот хоть «скорую»: больна…
– Ерунда…
– Ерунда?! Я уже в подвал упала!
О том, как и куда она упала… Ладно, скажет ей про «уборку картошки»…
…До деревни электричкой, от станции – полем. Вверху тучи, готовые выгрузить дождь или ранний снег. Многие не едут. Ни Сажинского, ни Эдика. Она одна от лаборатории вибраций? Хотя, вон Нина, корейца рядом нет. Попкова крепко – на крестьянских ногах. Ходят в бороздах вороны, но взлетают от треска трактора. «Войско» в ожидании. Гуменников, как полководец, к картофелекопалке. Обратно – с бригадиром…
Ноги вязнут, выволакиваются облепленные комьями земли. Картошки много, кидает в вёдра, которые относят куда-то мужчины. Эта работа идёт непрерывно, и, наверное, долго.
Обед, костёр… Опять картошка, но печёная. Жарка колбасы. Фотографируются. Для неё эта фотография – законсервированная боль: один месяц впереди, только один! Улыбается Гуменников. Шампур в руке, как дирижёр, взмахнувший палочкой.
В вагоне на обратном пути у окон тёмные леса, багряный закат.
Он мимо. В другой вагон? Или в тамбур? Она отодвигает дверь, и та на роликах едет перед ней и также – позади, отделяя чертой от детства. Её театральное удивление. Он тянет за руки, она обхватывает его шею. Его тело горячее, таинственное. Из вагона – первыми. От вокзала – в такси.
На кухне он говорит:
– Жена у тёщи.
Заваривает чай, из холодильника – какую-то еду…
– У меня дочка, ну, не большая, не как ты…
Это её первое падение. Не когда первый поцелуй, не когда объятия в поезде и в такси, а когда «Жена у тёщи…» И нет воли встать с табуретки и уйти, хлопнув дверью. Видит нацелованные ею губы. Жена, тёща, дочка… Всё плывёт мимо какой-то невидимой рекой, на берегу которой она делает попытку остановить мгновение этого лица, этих глаз, не весёлых и при улыбке. Впервые она чья-то. Её не удивляют мальчишки-дураки, дядьки с умильными физиями. К ним нет доверия! Вот Эдик Пахомов, Сажинский и другие… Все, кроме Гуменникова… И кроме Ничкова.
– Ванная тут.
– Ладно, – говорит предательски. Готова предаться, передаться и навеки отдаться этому непонятному человеку.
Хитрый замок он открывает с другой стороны. Не успевает она выключить воду. Под душем они вдвоём. Да, удивительный «душ»… Ни в фильмах, ни в медицинской литературе, ни на картинках, ни на голых скульптурах… Никогда не видела, никогда не думала…
Но и он… не думал…
Как доктор:
– Что с тобой?
– Я впервые в такой ситуации… Но я так люблю тебя, Павел!
– Одевайся, Тамара…
И он одевается, идёт проводить:
– Впервые девицу принял за девку. Но ты красивая. И невинная… – И добавляет: – Даже чересчур.
Она не слышит в его выводе ничего такого. И вот этот лёгкий удар головой… Ладно, там доски, на них – халаты… И доходит, что имел в виду. Он не планирует всё менять, как жених Галки Мельниковой.
Кажется, она слезает с центрифуги; опять будет нормальной. Да, и он отделался минимумом: выговор влепят за нарушение техники безопасности. Более не нарушил ничего.
Вера Алексеевна предельно смущена.
– …Томасик, но это именно так? В ванной… Ведь у тебя может быть ребёнок…
Тупая заклинка на одном варианте!
– Он понял, какая я в этом деле тёмная, он выгнал меня, обещая, что как-нибудь мы опять вдвоём, и тогда… Я жду, он не торопится! Эти дни после колхоза я одна! Он увиливает, а я страдаю! – И вновь рыдания.
Скажи ей Галка Мельникова, что она будет так плакать, размазывая тушь, не помня о том, какая она красавица, какая она непреступная…
– Он молодец! – выкрик матери.
…Проходит немало лет. Томасик, Тамара Ильинична (мать, наконец, откровенна, – и отчество меняет с ничейного), давно уволилась из ЦНИИСа. Окончен МГУ, факультет журналистики. Печатает. Неплохо, но не чьи-то статьи, а свои. Замужем за человеком, который ей напоминает не Ничкова, а Гуменникова. Как-то видит в метро – её бывший кумир. На выход! «Да, благородный, прямо Евгений Онегин с Татьяной…» Что творит с некоторыми первая любовь! Но тогда она твердит: «Умру без него, умру!»
Той осенью в зале гроб, а над ним – неживая фотография Гуменникова. Он до горла накрыт простынёй, а губы, как были – сизые. Родня в чёрном. Шёпот: «Это – его дочь, а это – его сын…» Она думает горько, но гордо: «Это я его первая, старшая дочь!»
На кладбище скрипач играет вокализ Рахманинова. Понятно, куда делось давнее кольцо матери: «Любимый романс Ильи Ильича».
Неуютная могила… И она, на полу в подвале. Ладно, – на мягкое, а могла на гири, и всё… Не как Гуменников, – один из тех, кто изобрёл панельное строительство. Благодаря ему, так много домов, которые сделали счастливыми миллионы людей. Она-то могла умереть глупой, ничейной… И то, что не умерла, радостно, и отделяет от могилы и от отца, но, будто он уходит вместо неё. И каждый день кто-то уходит вместо тебя, а ты живёшь…
Осень длинная, холодная. Отопления долго нет, в трубах клёкот. Она забирает из машбюро рефлектор, который отдал Гуменников летом.
Но теплеет и – снег…