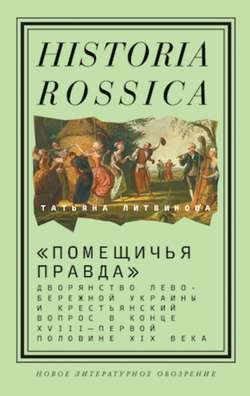Читать книгу «Помещичья правда». Дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII—первой половине XIХ века - Татьяна Литвинова - Страница 6
ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ «КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА»
ГЕНЕЗИС «КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА» КАК НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ
ОглавлениеЕсли осуществлять анализ историко-историографических исследований, имея в виду категорию историографического образа, то относительно первого периода, который можно условно обозначить второй половиной XVIII века – 1861 годом и назвать «прижизненным», представляется достаточно плодотворным – для определения общих очертаний содержательной картины крестьянского вопроса – обращение к такому специфическому историографическому материалу, как библиографический указатель В. И. Межова218. Конечно, добросовестный исследователь вроде бы не должен прибегать к «библиографическому методу», который обычно лишь фиксирует историографический факт, а потому используется как вспомогательный. Но в данном случае оказалось, что это не только экономия сил и энергии исследователя, но и эффективный содержательный метод219, позволяющий в целом наметить образ крестьянского вопроса. И хотя в библиографии Межова, насчитывающей более 3300 позиций («записей»), многое непосредственно к данной теме не относится, эта библиография показывает, как изучался, воспринимался крестьянский вопрос и какие основы уже были заложены для дальнейшего его штудирования. Замечу, что именно указатель в значительной мере помог не только определиться со структурой крестьянского вопроса, но и лучше понять ход его последующего историографического усвоения.
Обосновывая возможность библиографическим путем решать историографические задачи, необходимо обратить внимание на уникальность труда Межова, выполненного в жанре не столько традиционной библиографии, сколько исторической аналитики. Библиограф здесь выступает не просто фиксатором, а тонким аналитиком, располагая материал в большей мере не по названиям (не всегда точно отражающим суть), а по содержанию и очень часто раскрывая его в аннотациях. При этом составитель не разделял библиографию на научную и ненаучную, а шел за смыслом публикаций, направляя свое внимание прежде всего на факт отражения крестьянского вопроса в головах образованной публики.
Создавая свою библиографию без претензий на «ученое достоинство», Межов ставил цель наиболее полно и точно показать процесс обсуждения крестьянского вопроса в течение ста лет. И потому пытался собрать все, что публиковалось в газетах, журналах, сборниках, отдельных изданиях на русском и иностранных языках, чтобы средствами библиографии подновить контуры и дать «фотографически верное воспроизведение» несколько поблекшей величественной картины «умственного и нравственного движения, которое было возбуждено у нас крестьянским вопросом»220. Свой указатель составитель, думаю, справедливо назвал «зеркалом», ведь в целом он отразил весь ход развития крестьянского вопроса, каким он виделся в начале 1860‐х годов.
Систематизируя огромный материал и размышляя над различными подходами (хронологическим, алфавитным, по месту публикации), Межов остановился на четвертом, разбив библиографию на тематические отделы и подотделы, каждый из которых был посвящен тому или иному «частному вопросу». Тем самым составитель облегчил труд всех, кто захочет обратиться к этому изданию за справкой, к чему он и стремился, и фактически безупречно выполнил работу по структурированию самогó крестьянского вопроса, представив не идеальную, а реальную его модель. Поскольку в рамках отдельных структурных частей был задействован и хронологический принцип, каждая составляющая крестьянского вопроса представлялась, таким образом, «в историческом своем ходе и развитии»221. Названия разделов, рубрик и подрубрик также красноречиво свидетельствовали о восприятии крестьянского вопроса в широком и узком смысле понятия.
Показательно, что только седьмой раздел был определен как «Собственно крестьянский вопрос в России». Сюда попали различные официальные и «частные» материалы, касающиеся преддверия реформы 1861 года и внедрения ее в жизнь, вопросов наделения землей, административного устройства освобожденных крестьян, их обязанностей, выкупных платежей, поземельного кредита, ипотеки, земских и сельских банков и т. п. Здесь же содержатся статьи о положении мелкопоместных дворян, дворянских выборах, мировых посредниках и многих других дворянско-крестьянских проблемах. Непосредственно с Великой реформой связан и восьмой раздел – «Хроника крестьянского вопроса», где, наряду с сообщениями об объявлении царского манифеста, торжествах по этому поводу, помещены статьи, заметки, письма, рассказы о ходе дела, о реакции основных контрагентов и т. п.
Первые шесть разделов, не отнесенные к «собственно» крестьянскому вопросу, все же демонстрируют его во всей полноте, которая подкрепляется и численно. Большое количество позиций указателя – около двух тысяч – размещено именно в этих разделах. Здесь мы видим исследования по истории крепостного права в России, в частности и дискуссии по поводу его начал, например между Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным, по истории хозяйства и быта дворян и крестьян, публикации древних актов, документов, проектов относительно крепостного и поместного права. К первому, историческому разделу также отнесены и персонологические заметки, некрологи. Кроме этого специального раздела, исторические материалы включались в различные рубрики, посвященные отдельным аспектам крестьянского вопроса, что свидетельствует о глубоко историзированном отношении к проблеме, понимании ее неслучайности и органической укорененности в ткани народной жизни. Включение в указатель и работ по истории крестьянского вопроса в других странах Европы, а также по истории рабства в Америке демонстрирует осознание универсальности крестьянского вопроса.
Во втором разделе – «Статистика крестьянского вопроса» – Межов разместил публикации, так или иначе относящиеся к этому жанру: списки помещиков, материалы ревизий, их обзоры и основанные на них исследования, труды демографического характера, в том числе и по отдельным регионам, сведения о количестве имений, дворянства, крестьянства в целом и различных категорий крепостных в частности, о количестве крестьянских повинностей, о стоимости вольнонаемного труда, земледельческой продукции, о задолженности помещиков перед государственными кредитными учреждениями, а также земледельческая и сельскохозяйственная статистика, обзоры и описания имений, статистические обзоры хода крестьянского дела, начиная с ноября 1857 года, программы хозяйственно-статистических описаний, рецензии на статистические труды.
Насколько актуальными в российском обществе были проблемы частного и общинного землевладения и землепользования, свободного и принудительного труда и их влияния на промышленность, торговлю, на функционирование помещичьих имений, крестьянского, дворянского, фермерского хозяйства, свидетельствуют сотни позиций четвертого («Вопрос о свободном (наемном) и обязательном (барщинном) труде») и пятого («О разных видах пользования и владения землею») разделов. Кроме материалов исторического характера, здесь представлен широкий спектр достаточно неожиданных на первый взгляд сюжетов в разной жанровой обработке – большие, глубокие исследования, письма в редакции, короткие реплики в дискуссиях, которые особенно активно велись на страницах газет и журналов на рубеже 1850–1860‐х годов. В третьем разделе («Литература и библиография крестьянского вопроса, периодические издания по крестьянскому вопросу») дан перечень специальных периодических изданий и таких, которые содержали отдельные рубрики для обсуждения крестьянского вопроса и фактически библиографию библиографии, т. е. указатели статей в тогдашних журналах, обзоры «мнений», литературы на эту тему в России и Польше и т. п.
Из разделов, по мнению Межова, прямо к крестьянскому вопросу не относившихся, наибольшим по объему оказался шестой – «Теоретические статьи по крестьянскому вопросу». Количество позиций – около 650, распределенных по точкам зрения: богословская, философская, экономическая, социальная, государственная, бытовая, сельскохозяйственная, педагогическая, нравственная и другие, – свидетельствует, с одной стороны, о чрезвычайном интересе к подобным проблемам, о широком контексте, в который включалось крестьянское дело, а с другой – о достаточно глубокой, серьезной по тем временам проработке различных аспектов ключевого вопроса. «Крестьянский вопрос с точки зрения педагогической и нравственной», что отмечалось в предисловии, непосредственно к теме не относился. Но Межов счел необходимым указать статьи и по этим проблемам – как отражающие стремление общества к эмансипации крестьян. Материалы по народному воспитанию, распространению письменности, сельских училищ, земледельческих и других профессиональных школ, медицинских знаний и медицинского образования, по подготовке сельских учителей, по вопросам о роли женщины в народном образовании, о языке обучения, по истории образовательных учреждений, а также по состоянию нравственности, искоренению пороков, улучшению быта, гигиены и т. п. составляли половину позиций теоретического раздела.
Аннотации, иногда довольно пространные, особенно к тем публикациям, чьи названия малоинформативны, демонстрируют разнообразие представленных публично мнений. Итак, трибуну получали как сторонники, так и противники эмансипации, сторонники как вольнонаемного, так и принудительного труда, как те, кто выступал за освобождение крестьян с землей, так и те, кто был против, как обвинители народа (крестьян) в безнравственности, так и его защитники. Причем широкая презентация материалов дискуссий показывает включенность в проблематику «крестьянского вопроса» и славянофилов, и западников, и «консерваторов», и «либералов», и «эмансипаторов», и «крепостников», т. е. всего идейного спектра общественного мнения в равных объемах. А отдельный девятый раздел – «Крестьянский вопрос в поэзии и искусствах» – еще и освещал художественно-творческую сторону отображения и осмысления крестьянского вопроса. Сам факт фиксации таких источников, как стихи, песни, гравюры, картины, рисунки с натуры, медальоны, медали, особые памятные знаки для должностных лиц в память освобождения крестьян, знаки членам комиссии по крестьянским делам в Царстве Польском, мировым посредникам и т. п., можно считать заявкой на тотальный охват этой проблемы.
«Украинские» материалы, т. е. вышедшие из-под пера авторов из украинских регионов или касавшиеся их, представлены в указателе десятками позиций. Но специально они Межовым не выделялись, даже в первом разделе, где обособленно представлены публикации не только по зарубежью, но и по Прибалтике, Финляндии, Царству Польскому. И это притом, что здесь указаны статьи М. В. Юзефовича о хозяйственных отношениях в Правобережной Малороссии XVI века, Д. Л. Мордовцева по истории крестьян юго-западной Руси того же времени, полемика Н. И. Костомарова с последним, а также историческое описание анонимным автором быта помещичьих крестьян Подолии, Волыни, Киевщины до введения Инвентарной реформы. Правда, в 1861 году в «Основе» Межовым была опубликована небольшая «Библиография вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян в Южнорусском крае с 1857–1860»222. Здесь не указаны ни мотивы ее составления, ни принципы отбора позиций, поэтому трудно сказать, чем руководствовался и что стремился продемонстрировать составитель. Но, без преувеличения, эта библиография, вместе с программой 1861 года223, может восприниматься и как подготовка к будущим подобным изданиям этого автора, и как первая и (фактически) последняя попытка таким образом представить наработки в изучении крестьянского вопроса на украинских землях.
Хотя библиограф, скорее всего, был далек от украинофильских симпатий, тем более от представлений о «соборности» Украины, предложенное им территориальное измерение темы в то время могло не только представлять интерес для издателей журнала, но и быть определенным ориентиром, ведь записи указателя касались как всех украинских регионов Российской империи, так и Галичины. Сюжетное разнообразие, удостоверившее широкую трактовку крестьянского вопроса, присутствует уже в этой работе, которая, к сожалению, обойдена не только историками, но и библиографами. Не обращают на нее внимания и украинские историографы, хотя, вместе с подобной работой А. М. Лазаревского от 1858 года224, она, думаю, свидетельствовала о начале дифференциации историографии по линии «российская – украинская», хотя бы в ее «областническом» измерении.
Итак, большой труд Межова представляет собой не только наиболее полную на 1865 год библиографию по проблеме, но и историографическую «модель» крестьянского вопроса, даже своеобразную исследовательскую программу, которая в таком масштабном и системном виде до сих пор не реализована. Структура проблемы еще больше усложнилась во вскоре после того созданной библиографии «Земский и крестьянский вопросы»225, которая и самим составителем, и библиографами квалифицировалась как продолжение предыдущей226. Таким образом, «прижизненный» и начало «мемориального» периода формирования образа крестьянского вопроса свидетельствуют о глубоком понимании его сложности, многослойности, что, к сожалению, теряется в дальнейшем. Это говорит о далеко не поступательном движении в освоении крестьянского вопроса и подтверждает нелинейность, прерывность историографического процесса.
Общую тональность особенностей историографического периода, который я условно называю мемориальным, а хронологически определяю 1861 годом – началом XX века, достаточно тонко почувствовал В. О. Ключевский. Оппонируя В. И. Семевскому и выступая против суженной трактовки крестьянского вопроса, Ключевский, одновременно пытаясь понять автора, в черновых набросках писал:
С нас нельзя строго взыскивать за такие неудачи. Мы с вами принадлежим к поколениям, которые стоят в самом ненаучном отношении к крепостному праву. Мы при нем родились, но выросли после него. Мы видели, как оно умирало, но не знали, как оно жило. Оно для нас ни прошедшее, ни настоящее, ни вчерашний, ни сегодняшний день. Оно то, что бывает между вчера и сегодня, – сон! Оно осталось в наших воспоминаниях, но его не было в нашем житейском обиходе. Из сна помнятся только эксцентричности, все нормальное забывается. <…> Мы с Вами хронологически посредники между теми и другими – ни старые, ни молодые люди, не знаем его как порядок и не поймем его как призрак. Поэтому да не сетуют на нас люди, знавшие крепостное право и почтившие нас своим вниманием за то, что мы не оправдали этого внимания227.
Отсутствие в тот период, даже в обобщающих трудах228, обширных историко-историографических очерков, которые продемонстрировали бы основные тематические узлы и осознание идейной направленности исторической науки по крестьянскому вопросу, компенсируется в известной степени наблюдениями, высказанными Ключевским. Размышляя над тогдашней историографической ситуацией, не раньше декабря 1902 года229 он обратил внимание на ряд важных в данном случае моментов: во-первых, на очередное распределение российской истории на «две неравные половины» – «дореформенную и реформированную», что через отрицание прошлого230 создавало иллюзию перехода на новые основы; во-вторых – на появление в общественной жизни такого нового элемента, как недовольство, когда «общественная апатия уступила место общему ропоту, вялая покорность судьбе сменилась злоязычным отрицанием существующего порядка без проблеска мысли о каком-либо новом». Ученый также отметил определенный разрыв между исторической наукой и общественным сознанием, возникший в то время и приведший к обособлению историографии231. Однако сложно предположить, что герметичность «академической» историографии распространялась на изучение крестьянского дела, интерес к которому усиливался актуализацией дворянского вопроса, активно дебатировавшегося в публицистике. Это не могло не сказаться на исторических исследованиях232, что подтверждается и различными текстами самого Ключевского233. Неоднократно ученый подчеркивал значение Крестьянской реформы и для исследования истории общества234.
Обращение к истории могло быть также результатом непосредственной реакции на какие-то реалии периода реформ, под действием которых происходила, как писал В. И. Василенко, «неустанная, беспощадная ломка, попрание народных воззрений и обычаев и втискивание сельского быта в нормы писаных законов»235. Таков был один из мотивов, подтолкнувший этого экономиста, этнографа, к тому же семнадцать лет проработавшего в губернских и уездных крестьянских учреждениях – мировым посредником на Киевщине, статистиком в Полтавском губернском земстве, обнародовать историко-юридическое исследование об особенностях традиционных правоотношений, возникавших в «земледельческом быту» Малороссии. Подобные рассуждения высказывал и А. Ф. Кистяковский, который считал, что изучение обычного права вызвано и научными, и практическими потребностями. Под последними понималась именно реформа 1861 года. «Великая реформа требует того», – говорил историк, убежденный, что изучение обычного права поможет «приучить к бережному обращению с жизнью народа, которую следует улучшать, а не ломать»236. Как утверждал И. В. Лучицкий, первую работу по истории крепостного права еще молодой Кистяковский начал именно под влиянием акта 19 февраля237. Значение его для своего творчества не скрывал и А. М. Лазаревский238.
«Посредническая» роль в исследовании крестьянского вопроса, которую играли историки пореформенного времени, проявилась в ретрансляции на собственно историографический период тех доминант, что утверждались в общественном сознании в ходе реализации реформы и ее активного обсуждения, принимавшего различный вид. Чтобы зафиксировать эти доминанты, а также понять степень историографической преемственности, стоит взглянуть на издания, как бы подводившие итог этого «мемориального» периода. Они запечатлели не только достижения в научной области, но и идейное напряжение, особенно остро проявившееся во время юбилейных обсуждений последствий Крестьянской реформы в 1901 году239 и в связи с началом нового этапа аграрных преобразований периода революции 1905–1907 годов.
Квинтэссенцией подходов, апробируемых и усваиваемых в историографии в «эту последнюю крестьянофильскую эпоху русской истории»240, стало роскошно иллюстрированное издание «Крепостничество и воля»241, которое, наряду с большим количеством появившихся в 1911 году работ242, довольно ярко демонстрировало связь истории с общественным мнением и стремление влиять на общество посредством истории, в том числе и для решения государственных проблем243. Уже вступительная статья, вероятно редактора, а также первая часть – «Крестьяне во времена крепостного права» – обнаружили определенную тенденцию в формировании образа крестьянского вопроса. Основная тональность предисловия – благодарность монарху за «день милосердия, гуманности, зарю счастья, луч прогресса и культуры, проникший сквозь туман и тьму дореформенного времени». Главная тема – тяжелое положение крепостных, значительно лучшее, правда, по сравнению с Западом, где крестьяне были «полными рабами». Вместе с тем, несмотря на многочисленные упоминания современников о равнодушии крестьян при объявлении воли, о непонимании ими сущности манифеста, об их растерянности, звучал мотив светлой радости, затмить который авторы сборника не дадут «никаким научным исследованиям, силящимся умалить значение реформы»244.
Здесь же откровенно декларировался интересный концептуальный подход, когда в основной исторической части для описания положения крепостных крестьян специально брались «отрицательные стороны», когда авторы «не скупились на темные краски». Это было нужно, чтобы «оттенить более рельефно то тяжелое положение, из которого волею Монарха было выведено русское крестьянство»245. Побочная тема вступления – крайне негативные оценки дворянства, в адрес которого звучали эпитеты «малокультурное», «малообразованное» и т. п. Усилить эмоциональное воздействие и подкрепить словесные образы были призваны многочисленные иллюстрации, продолжавшие дописывать темный образ крепостнической эпохи. С одной стороны, здесь мы видим исключительно сцены тяжелого крестьянского труда, нечеловеческих издевательств помещиков над подданными, страшных пыток, с другой – сцены из роскошной жизни развращенного барства.
Своеобразным итогом «мемориального» этапа в формировании образа крестьянского вопроса и одновременно солидным плодом историографической рефлексии на новом уровне стала шеститомная «Великая реформа», подготовленная к пятидесятилетнему юбилею манифеста. Примеры использования этого издания в качестве репрезентанта историографической ситуации известны246. Даже в советской историографии оно воспринималось как наиболее серьезное среди юбилейного потока «различной низкопробной литературы»247. Масштабность роскошного иллюстрированного проекта (к его осуществлению был привлечен широкий круг признанных авторов) и тематический охват демонстрировали преемственность по отношению к крестьянской проблеме в широком смысле понятия, а также появление новых черт образа.
Уже вступительная редакционная статья дала основания подтвердить предварительную историографическую периодизацию и влияние на нее «внешнего» фактора. Точкой, завершавшей «мемориальный» и начинавшей научно-критический, собственно историографический период, здесь стала революция 1905 года. Она «освободила реформу 1861 года от той роли, которую заставлял ее играть в процессе роста нашего политического общественного сознания политический идеализм»248. Это освобождение, ни в коей мере не умалявшее важности события, могло предоставить возможности для настоящего понимания значения реформы и для научного изучения вынесенной в заголовок проблемы: «Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем».
Историография начиналась с упоминания работы И. Д. Беляева «Крестьяне на Руси»249, впервые опубликованной в славянофильской «Русской беседе» в 1859 году250. Именно Беляева авторы предисловия называли пионером в изучении крестьянства и основателем юридической, или указной, теории происхождения крепостного права в России. В то же время довольно пространно толковались основы дискуссии между «юристами» и В. О. Ключевским вместе с его последователями, которые происхождение крепостного права передвинули из государственной в сферу частноправовых отношений251. Тем самым проблема генезиса крепостного права органично включалась в исследование крестьянского вопроса. Непосредственно причастным к изучению истории крестьян считался и А. В. Романович-Славатинский со своим «Дворянством в России». Таким образом, дворянская составляющая, несмотря на тенденции к предвзятому освещению истории этого сословия, не выпадала из крестьянского вопроса.
В контексте моей темы особенно важно присутствие в «Великой реформе» «украинских» материалов. Уже в историографическом сюжете редакционной статьи были отмечены достижения в разработке истории крепостного права и крестьянства Малороссии в трудах А. М. Лазаревского, В. А. Мякотина, В. А. Барвинского. Таким путем фактически закреплялось выделение этого потока из общероссийского историографического контекста, а также была заложена традиция начинать историю проблемы с исследований именно этих авторов.
В основной части крестьянский вопрос в украинских регионах был представлен исследованиями Н. П. Василенко252, в которых, с одной стороны, подчеркивался пока недостаточный уровень разработки истории крестьянства, крепостного права, с другой – подытоживалось сделанное. Правда, здесь историк несколько повторялся, ведь по этому поводу он уже высказывался, и неоднократно. В частности, в 1894 году он не только назвал Лазаревского лидером одного из направлений в изучении истории Малороссии, но и предложил, хотя и краткую, историографию крестьянского вопроса в регионе253. Еще раз на эту тему Василенко писал в 1903 году – в мемориальном очерке памяти Лазаревского и в 1908‐м – в предисловии ко второму изданию работы последнего «Малороссийские посполитые крестьяне»254. Будущий академик не только охарактеризовал значение трудов Лазаревского для изучения слабо разработанной истории Украины в целом и «двух главнейших малорусских сословий»255, подчеркивая высокую научную ценность этих исследований, но и проанализировал позиции по вопросу о генезисе крепостного права в Малороссии, занимаемые А. Ф. Кистяковским, Н. И. Костомаровым, И. В. Теличенко, А. П. Шликевичем, В. А. Мякотиным, И. В. Лучицким, даже Г. Ф. Карповым, что снимает необходимость подробно останавливаться на этом. Обращу внимание лишь на несколько моментов, важных в контексте формирования историографических стереотипов.
Историки второй половины XIX – начала XX века, рассматривая историю Левобережной Украины как составляющую общероссийской и одновременно неустанно подчеркивая ее социально-экономическую, социально-правовую специфику, в вопросе происхождения крепостного права не имели единодушия. Здесь фактически сложилась ситуация, несколько подобная той, что имела место в русской историографии с ее дискуссией на эту тему. В 1862 году А. Ф. Кистяковский высказал мнение, согласно которому крепостное право в крае вполне естественно вытекало из особых, искаженных украинских общественных отношений, возникших вследствие событий середины XVII века. Российскому же правительству оставалось только утвердить существующее в реалиях, что и было сделано указом от 3 мая 1783 года. Независимо от Кистяковского, в первом издании «Малороссийских посполитых крестьян» (1866) эту концепцию на широком материале проиллюстрировал Лазаревский. Со временем ее развили Мякотин и Барвинский. Василенко же закрепил данную точку зрения в историографии, а также настаивал, говоря о Лазаревском, что она «должна быть признана единственно правильной в научном отношении». К тем же, чьи позиции соответственно оказывались «ненаучными», причислялись сторонники «указной» теории, по которой решающая роль во введении крепостного права принадлежала центральному правительству. Первенство здесь отводилось Костомарову, который в «Мазепе и мазепинцах» высказался по этому поводу «наиболее полно и решительно», и его последователям, Шликевичу и Теличенко256.
Костомаров, которому Василенко отдавал лидерство в исследовании «внешней» истории Украины, ее громких, героических страниц и персоналий, специально крестьянский вопрос не исследовал, но касался его неоднократно – в связи с историей не только Гетманщины, но и предыдущего периода. В контексте «обвинений» со стороны Василенко обращу внимание на позицию Костомарова относительно роли Люблинской унии в закрепощении Польшей украинских крестьян. Полемизируя с Н. Д. Иванишевым и М. В. Юзефовичем в рецензии на книгу «Архива Юго-Западной России»257, посвященную постановлениям дворянских провинциальных сеймиков, он высказал довольно нетипичное для тогдашнего украинского историка мнение – что закрепощение на украинских землях было следствием не «внешнего» вмешательства, связанного с поляками, а внутренних отношений, в том числе действий местной социальной верхушки еще в литовские времена258. (Кстати, о глубокой укорененности крепостного права в Малороссии писал и Г. Ф. Карпов259.) Фактически Костомаров здесь сближался с позициями Лазаревского, только по поводу другого времени. Интересно, что в отношении литовско-польского периода сам Василенко придерживался «указной» концепции и связывал распространение крепостного права в Украине с Люблинской унией. А в Левобережной Малороссии прикрепление крестьян стало «результатом всего хода внутренней жизни». Указ от 3 мая 1783 года только юридически оформил этот процесс260.
Относительно А. П. Шликевича и И. В. Теличенко отмечу, что их позиции так и остались на долгое время маргинальными в украинской историографии. Возможно, рассуждения Василенко сыграли здесь не последнюю роль. Во всяком случае, в его текстах из «Великой реформы» фамилии этих историков не упоминались. И если Теличенко, благодаря целому ряду работ, забыт не был, то Шликевич фактически ушел в историографическое небытие. Идейный пафос его позиции касательно указа от 3 мая 1783 года актуализируется разве что в современном общественном дискурсе и неонароднической историографии – как негативное, даже враждебное, отношение части моих соотечественников к Екатерине II, с которой и связывают закрепощение миллионов украинских крестьян. Лазаревский же и сейчас остается «одним из лучших знатоков гетманской Малороссии», таким, с чьей смертью, как писал Василенко, «в малорусской историографии образовался пробел, который, трудно даже представить, когда будет заполнен»261. Показательно также, что, усиливая выставленные высокие оценки историку Гетманщины, Василенко солидаризировался и с мнением В. А. Мякотина о состоянии разработки «внутренней», социальной истории, представлявшейся «темным лабиринтом запутанных вопросов», из которых лишь незначительная часть решена в литературе, бóльшая же – едва поставлена262.
Замечу, что, несмотря на определенные достижения, неразработанной осталась и проблема, выдвинутая Лазаревским на заседании Общества Нестора-летописца, которое было посвящено сорокалетию Крестьянской реформы, и имеющая особую значимость в контексте данной книги, – история освобождения крестьян от крепостной зависимости263. Ученый предложил для коллективной работы программу, в которой первой из трех стояла задача исследовать деятельность губернских комитетов по обустройству быта крепостных крестьян. Последняя «хотя и не имела практических результатов, но <…> важна для истории в том отношении, что в ней выразилось отношение помещиков к вопросу»264.
Итак, Лазаревский фактически первым из украинских историков поставил в научной плоскости проблему «дворянство и крестьянский вопрос». Насколько далека от ее решения была в тот момент украинская историография, свидетельствует перечень сформулированных источниковедческих задач, среди которых и составление библиографического указателя «для отметки в нем всех печатных источников как для истории крестьян вообще, так и [для] их истории освобождения в частности»265. Как видим, здесь крестьянский вопрос, по сравнению с «программой» В. И. Межова, понимался значительно у́же. Но даже определенный Лазаревским объем задач выполнен не был. В 1912 году Н. П. Василенко на заседании Общества Нестора-летописца фактически одним из первых представил краткую историю реформы 1861 года в Черниговской и Полтавской губерниях266. В том же году П. Я. Дорошенко, хотя и написал наиболее обширный на тот момент очерк истории крепостного права и Крестьянской реформы в Черниговской губернии, сознательно себя ограничил: «Я не имею времени останавливаться на весьма интересных частностях работ Черниговского Комитета; это может служить задачей специального исследования»267. По сути, она остается нереализованной до сих пор.
Достаточно высокий уровень историографической рефлексии составителей «Великой реформы» подтверждает также фиксация слабо разработанных или обойденных исследовательским вниманием сюжетов. Это может рассматриваться как своеобразная постановка задач на будущее. К неосвещенным темам относились характер крепостного права, помещичье хозяйство XVII века, петровская эпоха в истории крепостного права, история крестьянства XIX века, в том числе государственных крестьян. Отмечалась и потребность более широкого использования уже опубликованных источников, разработки материалов частных архивов, необходимость изучения каждого помещичьего хозяйства отдельно, без чего невозможно воссоздать полную картину экономического развития страны накануне 1861 года. В то же время высказывалось одобрение в адрес работы В. И. Семевского, в которой «с исчерпывающей полнотою изучено отношение русского общества к крепостному праву»268, т. е., если учесть замечания Ключевского относительно ограниченности подхода Семевского, фактически можно говорить о внимании только к одному из аспектов крестьянского вопроса. Безусловно, специфика юбилейного издания исключала перенасыщение статей дискуссиями с возможными оппонентами, перегрузку справочным аппаратом, отсылками к предшественникам, что позволяет представить не источниковую основу в полной мере, а лишь частично уровень осведомленности авторов с литературой и т. п. Однако в данном случае это не так важно. Главное – чтó именно закрепилось из предшествующей традиции и какие новые идейные и сюжетные доминанты появились.
Содержащиеся в шести томах статьи показывают и осознание историками единства дворянско-крестьянского дела269, и значительное внимание к исторической составляющей крестьянского вопроса, и включение в него проблем не только крепостных, но и других категорий крестьян, военных поселян, и наличие традиционных тем – крестьянский быт, повинности, крестьянское движение. Одновременно здесь появились и сюжеты, которых, разумеется, не стоит искать в указателе Межова, – «масонство и крепостное право», «декабристы и крестьянский вопрос», «петрашевцы и крестьянский вопрос». В четвертом томе хотя и продолжалось рассмотрение того, как крестьянский вопрос осваивался литературно-художественными средствами, но подавляющее большинство работ было посвящено критическому, сатирическому отражению крепостнических «реалий»270 в произведениях Т. Г. Шевченко, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Чернышевского, в «Колоколе» А. И. Герцена. Воспоминания также преимущественно касались «темных» эпизодов. «Персонологическая» часть пятого тома фактически канонизировала ряд реформаторов, среди которых, кроме сановных лиц, нашлось место только для «прогрессивных» деятелей – Я. А. Соловьева, Н. А. Милютина, Н. П. Семенова, Ю. Ф. Самарина, К. Д. Кавелина, П. П. Семенова-Тян-Шанского, В. А. Черкасского. Был определен и круг «крепостников», куда попали и те, кто непосредственно «мешал» бюрократам-реформаторам, и «противники» идеи аболиционизма – от А. Т. Болотова и П. И. Рычкова до Д. П. Трощинского и В. Н. Каразина вместе с большинством дворянства271.
Очевидно, это стало результатом утверждения взгляда на дворянство как на предателей «народных начал», как на врагов народа, – взгляда, который, по мнению Ключевского, еще в середине XIX века был лишь одним из альтернативных. Теперь же дворянство воспринималось в качестве «нароста на народном теле, вредного в практическом отношении и бесполезного в научном»272. Такой подход, считал историк, содержал в себе много погрешностей, и прежде всего физиологическую: «Нарост, хотя и нарост, остается органической частью живого существа, которая принимает участие в жизни организма, и даже иногда более сильное, чем нормальная часть организма»273.
По мнению Ключевского, эта «аристофобия» именно на рубеже XIX–XX веков и привела к свержению еще недавних авторитетов с пьедестала. В частности, это ярко проявилось в случае с Н. М. Карамзиным: широкое празднование его столетнего юбилея подтолкнуло «либерально-демократическую» общественность «обличать», «видеть в нем не деятеля русской культуры прошедшей эпохи, а живого представителя враждебного лагеря», как писал Ю. М. Лотман, достаточно точно раскрывая механизм «либерального» мышления в исторической науке. Тот механизм, для которого характерно не стремление понять позицию персонажа прошлых эпох, а отношение к нему как к ученику, отвечающему на поставленные вопросы и получающему удовлетворительную или неудовлетворительную оценку – в зависимости от совпадения ответа с ожиданиями со стороны историка-учителя. Печальным, но характерным примером такого подхода Лотман считал анализ общественно-литературной позиции Карамзина известным историком литературы А. Н. Пыпиным в монографии «Общественное движение в России при Александре I» (1908): «Обычно академически объективный Пыпин излагает воззрения Карамзина с такой очевидной тенденциозностью, что делается просто непонятно, каким образом этот лукавый реакционер, прикрывавший сентиментальными фразами душу крепостника, презирающего народ, сумел ввести в заблуждение целое поколение передовых литераторов, видевших в нем своего рода моральный эталон»274.
На страницах «Великой реформы» подобную оценку Карамзину, во взглядах которого «в конечном итоге отлились идеалы крепостнической части общества», дал М. В. Довнар-Запольский: «…сентиментальная идиллия в теории, в литературных произведениях и жестокая действительность на практике в связи с настойчивой защитой сохранения этого института (крепостного права. – Т. Л.)»275. Такие историографические метаморфозы произошли не только с Карамзиным.
Если же сравнить провозглашенные в предисловии к «Великой реформе» (в качестве еще не решенных) задачи и «программу» Межова, можно увидеть, что постановка проблемы во всей «прижизненной» полноте в юбилейном издании не просматривается, хотя ряд содержательных черт предыдущего образа крестьянского вопроса и сохранился. Кажется, сам Межов своим выделением «собственно крестьянского вопроса» фактически направил дальнейшие исследования в определенное русло – к обсуждению проблемы ликвидации крепостного права. Отношения к крестьянскому вопросу в широком и узком смысле как к целостности, несмотря на его достаточно сложную и дифференцированную структуру, в дальнейшем не наблюдается. Он как будто распался на отдельные составляющие, каждая из которых будет включаться в различные проблемно-тематические контексты.
Исчезла и характерная для «прижизненного» периода дискуссионность276, появилось определенное единообразие в оценках крепостного права, результатов Крестьянской реформы, действий правительства, роли представителей различных идейных платформ. Если в «прижизненной» фазе сосуществовали и критика, и апологетика крепостного права, на страницах печатных изданий высказывались как те, кто выбирал темные краски, так и сторонники ярких цветов, то «Великая реформа» уже «отказывала» не только апологетам, но и тем, кто пытался посмотреть на дореформенный период как на вполне нормальное время с точки зрения экономического развития общества. Например, П. Б. Струве, акцентировавший экономическую состоятельность крепостнической системы до реформы 1861 года включительно, хотя и упоминался во вступительной статье к первому тому, но с критическими замечаниями, пока не слишком жесткими, за создание не совсем точной картины хозяйства России XIX века277.
Итак, как видим, «нормальности» дореформенной эпохи уже забылись, «эксцентричности» же закрепились, и признаки сна, о котором говорил Ключевский, превратившись в новый канон, почти полностью переходили в следующий собственно историографический период. В связи с этим не удержусь от одного замечания. Сегодня историки считают хорошим тоном размахивать антисоветской историографической дубинкой, часто забывая, что советская историография во многом оказалась весьма чувствительна к своим предшественникам. Однозначная и слишком обобщающая критика крепостного права, беспредельное возложение опалы на дворянство, жесткая идеологическая заданность позиций тех или иных деятелей, ведущая роль революционно-демократического направления в освободительном движении, даже крестьянское движение, влияние западноевропейского Просвещения и экономических идей как главные причины постановки и решения крестьянского вопроса не были полностью выдумкой советской историографии, которой навязывают все родовые пятна отечественной исторической науки. Когда, например, современный российский исследователь П. В. Акульшин пишет, что с 1930‐х годов утвердилось мнение об А. Т. Болотове как о жестоком помещике-крепостнике278, хочется напомнить, что такой образ уже был начертан М. В. Довнар-Запольским в «Великой реформе». Советские же историки лишь придали ему несколько карикатурных черт мелкого трусливого вымогателя. Иными словами, в оценках крестьянского вопроса в широком смысле понятия советская историография сохраняла преемственность с предыдущим периодом. Разрыв же наметился на рубеже XIX–XX веков. А первый собственно историографический, т. е. научно-критический, период, который я определяю 1905‐м – концом 1920‐х годов, стал в значительной степени временем закрепления «уроков» «мемориальной» фазы формирования образа явления, а также началом его серьезной трансформации.
Этот историографический период носит переходный характер. Замечу, что с точки зрения логики познавательного процесса в конце XIX – начале XX века относительно крестьянского вопроса сложились все предпосылки для выхода его на уровень научно-исторического познания. Но коррективы вносила логика конкретики самой истории – ветер истории был сильнее, чем ветер историографии. Во время революции 1905–1907 годов и Столыпинской реформы интерес к крестьянскому вопросу резко возрастал279, то же наблюдалось и после 1917 года. Историографический итог в изучении проблемы был подведен и очерками украинских историков, свидетельствовавшими как о проблемно-тематическом распаде крестьянского вопроса и о приоритетности отдельных его составляющих, так и о начале размежевания либеральной народнической, украинской национальной, марксистской исторической науки, что осложнялось выделением «государственного» направления и так называемой диаспорной историографии.
Историками исторической науки уже много сказано об особенностях «сосуществования» историографий в этот период280, когда рядом со старыми возникали новые центры, сохранялось многообразие взглядов и подходов, когда, как писал Я. Д. Исаевич, даже после того, как сопротивление академиков было сломлено и Академию наук преобразовали во вполне зависимое от ЦК компартии учреждение, в ней оставались ученые, пытавшиеся культивировать старые академические традиции281. Поэтому отмечу лишь, что, независимо от идейных и методологических ориентаций историков, вопросам, которые поднимались, например, А. М. Лазаревским, В. А. Барвинским, В. А. Мякотиным в конце XIX – начале XX века, теперь оставалось все меньше места.
Современные украинские историки исторической науки определяют 1920‐е годы как период «настоящего взлета историографических исследований»282. А среди значительного объема такой продукции называют прежде всего работы Д. И. Дорошенко, Д. И. Багалея, О. Ю. Гермайзе. Следовательно, именно они в значительной степени представляют историко-историографическую ситуацию того времени, в том числе в вопросах сохранения научной преемственности, появления возможных разрывов, различий, изменения оценок наследия предшественников, расстановки акцентов. Уже в известной работе Дорошенко 1923 года Лазаревский, хотя и признавался «лучшим у нас знатоком старой Гетманщины», получил упреки за «как будто умышленное отыскание темных сторон ее жизни», за отсутствие «необходимой связи с целым общим ходом исторического процесса», за «односторонность освещения гетманского периода нашей истории, особенно в том, что касается отдельных его деятелей и вообще казацкой старшины»283.
Региональные штудии Лазаревского мало корреспондировали с только что выстраивавшимся украинским «большим нарративом», а его научные убеждения не соответствовали идеологии «государственной» историографии, хотя основной вывод историка относительно генезиса крепостного права был воспринят фактически без обсуждения.
«Большое оживление национальной украинской жизни», как писал Дорошенко, «потребность в синтетическом курсе украинской истории и вообще в популяризации сведений о прошлом родного края» – все это определяло новые приоритеты, среди которых, если судить по последним разделам «Обзора украинской историографии» («Огляд української історіографії»), крестьянский вопрос передвигался на второй план. Обобщая по регионально-хронологически-тематическому принципу результаты научной работы конца XIX века, в числе исследователей «внутренней жизни Левобережной Украины» Дорошенко назвал А. М. Лазаревского, Д. П. Миллера, О. И. Левицкого, И. В. Теличенко, И. В. Лучицкого, Н. В. Стороженко, Н. П. Василенко, В. А. Мякотина, неравномерно распределив между ними внимание. Анализируя же достижения украинской историографии первых десятилетий XX века, он отметил немного работ по истории хозяйства, социально-экономических отношений, различных социальных групп Левобережной Украины-Гетманщины, вспомнив Г. А. Максимовича и более продолжительно остановившись на нескольких ранних трудах М. Е. Слабченко и рецензиях на них Василенко. Показательно, что история XIX века вообще не попала в поле зрения Дорошенко.
В 1928 году Д. И. Багалей, чье первенство в создании обобщающих трудов по истории украинской исторической науки бесспорно284, в ряде подразделов «Историографического вступления» к «Очерку истории Украины на социально-экономической основе» («Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті») не только дал общую оценку дореволюционной украинской историографии, но и подвел черту достижениям в исследовании отечественной истории за 1917–1927 годы. Среди ошибок старой историографии было названо недостаточное изучение истории Гетманщины. Вместе с тем отмечались «огромные последствия <…> которые здесь дал А. М. Лазаревский». Пренебрежение недавним прошлым («дальше Гетманщины историки Украины почти не шли») ученый объяснял существующими представлениями о конце украинской истории после ликвидации традиционных казацких структур. Основной же пробел дореволюционной исторической науки, по мнению Багалея, заключался в недооценке социально-экономического фактора. Достижения историков «народнической ориентации», понятно, не отрицались, но ошибочность их подходов в изучении «экономического благосостояния» украинского крестьянства, мещанства, казачества заключалась в выборе – в качестве «идеологической основы» исследований – национального, а не социально-экономического момента285.
Представив за «топографическим принципом» «общий библиографический обзор» работ пооктябрьского десятилетия, Багалей как достижение назвал интерес к новейшей истории Украины, «приспособление к трудам по украинской истории марксистской методы» и, перечислив целый ряд имен, в специальном подразделе «Марксистські праці з історії України» («Марксистские труды по истории Украины») дал довольно пространную характеристику творчества М. И. Яворского, М. Е. Слабченко, А. П. Оглоблина, О. Ю. Гермайзе, которые будто бы лучше разобрались в особенностях новой методологии. Однако если в этой работе для академика марксизм «выступал лишь одной из многих теорий исторического процесса, абстрактной схемой»286, то в последнем историографическом труде все было несколько иначе.
Непропорционально большое место, по мнению В. В. Кравченко, Багалей уделил работам Слабченко287. В контексте нашей темы именно это особенно важно. И не только потому, что перед нами одна из немногих сравнительно обширных рецензий на труды последнего, но и ввиду возможности представить позиции самого рецензента, которые вскоре испытают метаморфозы, отражая стремительные изменения историографической ситуации рубежа 1920–1930‐х годов. Пространно характеризуя «Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст.», отмечая их пионерский характер, достоинства и слабые места, ценной чертой этого труда Багалей назвал фактическое содержание, достаточно органично связанное с марксистскими объяснениями и собственными выводами автора, к которым тот подходил осторожно, обосновывая их на фактах288. Показательно, что в этой «достаточно удачной попытке новейшей украинской истории в отдельных очерках и вопросах (выделено автором цитаты. – Т. Л.)» наибольшее удовлетворение рецензента вызвали разделы, посвященные событиям Крестьянской реформы. Багалей воспринял и мнение об определяющем, поворотном характере акта 19 февраля 1861 года в социально-экономической истории Украины, и авторский подход к освещению эволюции реформы «как со стороны помещичьего, так и со стороны крестьянского землевладения (курсив мой. – Т. Л.)»289.
С точки зрения историографической преемственности важно отметить, что одесский профессор в этом произведении Багалея представлен не только как исследователь Новейшей истории Украины, смело взявшийся за малоразработанное поле истории XIX века. По количеству работ и по «научной энергии» он представлен как, в сущности, продолжатель А. М. Лазаревского, как «главный исследователь истории Левобережной Украины», «большой эрудит и знаток печатных источников по истории Гетманщины»290, синтезировавший накопленное в области экономической, социальной истории. В «Историографическом вступлении» («Iсторіографічний вступ») Багалей назвал и значительный круг имен, в том числе «старых» историков – И. А. Линниченко, Н. Ф. Сумцова, Г. А. Максимовича и др. Их уже не будут упоминать молодые коллеги академика, историографические работы которых демонстрируют начало разрыва между «старой» историографией и новыми направлениями украинской исторической науки в исследовании социальной истории.
В 1929 году коротко подытожил достижения украинской исторической науки за десятилетие О. Ю. Гермайзе. По мнению Багалея, его марксистские взгляды были очень выразительными и здесь он уступал только М. И. Яворскому291. Гермайзе уделил значительное внимание идейно-организационному переформатированию украинской исторической науки. Основные доминанты, определявшие его взгляд, – проявление учеными «новых интересов», а именно отношение к украинскому движению292 и к «идее материалистической социологии». Важным был и языковой фактор. Эти критерии оставляли без внимания «направление А. М. Лазаревского». Подчеркнув, что «эпоха частных героических усилий одиноких исследователей и общественной инициативы небольших кружков навеки умерла вместе с победой революции», и приветствуя приход «эпохи организованного, планируемого государством и им поддерживаемого труда», Гермайзе, как и Багалей293, кратко остановился на институциональных сдвигах, в первую очередь – новых, поскольку, по его мнению, университеты не откликнулись на вызовы времени294, а также на отдельных направлениях, среди которых новым считал интерес к общественным и революционным движениям, экономической истории, особенно XIX века.
К сожалению, краткий очерк не позволяет понять, насколько в указанных отраслях были представлены проблемы крестьянского вопроса. Но важно, что Гермайзе остановился на работах М. Е. Слабченко, свидетельствовавших о растущем интересе к экономической истории XIX века. Однако, оценивая грандиозность поставленной тем задачи – «дать экономическую историю Украины за последние 300–400 лет», взяться «за освещение почти неразработанной истории XIX века», – Гермайзе подчеркнул лишь начальный характер работ профессора, которые тогда могли только «удовлетворить жгучую потребность у нас иметь курс социально-экономической истории нового времени, а не быть попыткой полного исследования экономической истории Украины»295. Еще одной новацией 1920‐х годов Гермайзе считал переход украинских историков на марксистские позиции. Причем он довольно четко указал и на момент перехода, и на влияние «внешнего» фактора – государства, начавшего формулировать заказ: «Только во вторую половину этого десятилетия, когда утихла понемногу буря социального соревнования и советское государство получило возможность больше внимания уделить культурному фронту и научной работе, началась систематическая и более организованная работа украинских историков. За это время все же только положены основы, расчищены пути, поставлены задачи»296.
Какими виделись эти задачи в изучении крестьянского вопроса, позволяет понять опубликованная также в 1929 году статья С. В. Глушко297, который вместе с Гермайзе занимался организационной работой по обеспечению деятельности исторической секции Всеукраинской академии наук, трудился на Научно-исследовательской кафедре М. С. Грушевского и вскоре подвергся репрессиям298. Эта статья является, по сути, первым специальным очерком историографии крестьянского вопроса и дает возможность конкретнее представить изменение его проблемно-тематического и регионально-хронологического измерений.
В историографическом обзоре, скорее похожем на библиографический, Глушко остановился «только на главнейших трудах (курсив автора цитаты. – Т. Л.)». При этом дореформенный период оказался почти обойден вниманием. Из нескольких посвященных ему статей, все же попавших в поле зрения историографа, практически ни одна не касалась Левобережной Украины-Малороссии, поскольку исследования Г. Дьякова, А. Назарца, О. Багалей-Татариновой, указанные в обзоре как работы по крестьянскому вопросу этого региона, были написаны на материалах Слобожанщины. Среди авторов обобщающих трудов по истории XIX века Глушко без каких-либо содержательных и оценочных характеристик назвал только М. Слабченко и М. Яворского. Поэтому в прагматичном плане очерк Глушко мало что дает исследователю Левобережья конца XVIII – первой половины XIX века. Но отбор статей по истории крестьянского вопроса других регионов и периодов показывает, чтó было этим главнейшим, какие черты образа крестьянского вопроса затушевывались, а какие подчеркивались и утверждались в украинской советской историографии.
Прояснению этого служит и авторское определение основного понятия – «крестьянский вопрос», – с чем чрезвычайно редко приходится встречаться. К тому же Глушко не только непосредственно обратился к историографическому анализу «разных течений в украинской научной литературе», но и намеренно, по его признанию, остановился на характеристике социально-экономического и политико-правового положения крестьян после реформы 1861 года. Этот обширный, как для историографической работы, сюжет, где довольно схематично и упрощенно описано пореформенное украинское крестьянство, был привлечен для демонстрации сюжетно-тематических новаций последних десяти лет: главное внимание историков остановилось на экономическом состоянии крестьянства299. Таким образом, Глушко четко зафиксировал изменения в структуре крестьянского вопроса. Авторской же дефиницией в самом начале статьи была определена еще одна приоритетная его составляющая: «Под крестьянским вопросом надо понимать весь тот комплекс социально-экономических и политических притязаний, которые ставили широкие массы сельского населения перед властвующими сословиями, для обеспечения нормальных условий своего существования, а также весь этот процесс неустанной, систематической борьбы за реализацию тех притязаний»300.
Итак, если на «прижизненном» этапе формирования историографического образа улучшение положения крестьян определялось в первую очередь как дело правительства и дворянства, а в «мемориальной» фазе – «демократов» (А. Герцен, Н. Чернышевский и др.), то историки 1920‐х годов считали это делом самих угнетенных. Очевидно, реальное масштабное подключение больших масс крестьян к конкретному решению аграрного вопроса, особенно в годы революции и Гражданской войны, не могло не быть перенесено на исторические исследования. В то же время важно отметить, что из‐за направления проблемы в такое русло исключалось осознание единства крестьянского и дворянского, крестьянско-помещичьего вопроса. Широкий спектр социальных отношений переводился в конфронтационную плоскость, поскольку «давней мечтой» крестьянства, извечным стремлением, представлялось «уничтожение господина и раздел его земли»301.
К концу первого историографического периода, который начался бурей 1905 года и завершился, как считал О. Гермайзе, ее успокоением в середине 1920‐х годов, фокус исследовательского внимания явно переместился в сторону истории крестьянства, и преимущественно истории крестьянских движений, форм эксплуатации, форм классовой борьбы. На периферию внимания уходили сюжеты, связанные с усилиями правительства развязать сложный социальный узел, реформа 1861 года из «Великой» превращалась в «так называемую великую» и оценивалась как ничего крестьянам не давшая, а только поставившая крестьянскую проблему «во весь рост». Крестьянство же представлялось исключительно той категорией, что до революции 1917 года «постоянно находилась в Украине под гнетом господствующих сословий», была лишь объектом эксплуатации, почвой, «на которой буйным цветом росло благосостояние сначала дворянина-крепостника, а дальше, с изменением экономических условий, и буржуазии»302. Причем крестьянство изображалось без каких-либо региональных и групповых различий – как целостное сообщество, чья жизнь была просто невыносимой и только ухудшалась. Страдальческий, «лакримозный» образ украинского крестьянства прочно укоренился в историографии.
Глушко, хотя и не определял в качестве критерия отбора работ для анализа «партийную», марксистскую принадлежность авторов, фактически продемонстрировал и усвоение, и утверждение основных постулатов новой методологии. В марксистской же историографии, которая, по замечаниям Багалея и Гермайзе, во второй половине 1920‐х годов начинала доминировать в украинской исторической науке, предпочтение, при сохранении определенной степени преемственности в оценках, отдавалось лишь отдельным составляющим крестьянского вопроса – экономической истории крестьянства и его классовой борьбе для достижения «давней мечты». На обочине, как специальная, оставалась дворянская составляющая проблемы. Поэтому из поля зрения историографа выпали исследования П. Клепацкого, В. Дубровского, Е. Лазаревской и других, где осознание целостности проблемы еще сохранялось.
218
Межов В. И. Крестьянский вопрос в России: Полное собрание материалов для истории крестьянского вопроса на языках русском и иностранных, напечатанных в России и за границею. 1764–1864. СПб., 1865. ХIII, 422 с.
219
Подбадривали меня и замечания П. А. Зайончковского, который, анализируя аннотированный перечень российских библиографических изданий, отметил, что подобные указатели, помимо прочего, свидетельствуют также о степени изученности тех или иных проблем и вопросов (см.: Зайончковский П. А. Рец. на: «История СССР. Аннотированный перечень русских библиографий, изданных до 1965 года». Составители М. Л. Борухина, Г. А. Главацких, Л. М. Маслова, С. М. Мейлер, В. В. Филагина. М.: Изд-во «Книга», 1966. 427 с. // ВИ. 1967. № 7. С. 166).
220
Межов В. И. Крестьянский вопрос в России. С. V.
221
Межов В. И. Крестьянский вопрос в России. С. VIII.
222
Межов В. И. Библиография вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян в Южнорусском крае с 1857–1860 // Основа. 1861. Март. С. 85–98.
223
Межов В. И. Программа сочинения: литература о вопросе об улучшении быта помещичьих крестьян. СПб., 1861. С. 15.
224
Лазаревский А. М. Указатель источников для изучения Малороссийского края. СПб., 1858. Вып. 1.
225
Межов В. И. Земский и крестьянский вопросы: Библиографический указатель книг и статей, вышедших по первому вопросу с самого начала введения в действие земских учреждений и ранее, по второму с 1865 г. вплоть до 1871 г. СПб., 1873.
226
Библиография русской библиографии по истории СССР. Аннотированный перечень библиографических указателей, изданных до 1917 года / Подг. к печ. З. Л. Фрадкина. М., 1957. С. 48.
227
Ключевский В. О. Отзыв об исследовании В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.». С. 433.
228
Корнилов А. А. Крестьянская реформа. СПб., 1905. 271 с.
229
Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 381.
230
Экштут С. Французская горизонталка. С. 69–73.
231
Ключевский В. О. Русская историография 1861–1893 гг. С. 386.
232
Шмидт С. О. Историографические источники и литературные памятники // Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 97–98.
233
Ключевский В. О. Крепостной вопрос накануне законодательного его возбуждения (Отзыв на сочинение Ю. Ф. Самарина. Т. 2. «Крестьянское дело до высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 г.») // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 8. С. 31–49; Он же. Отзыв об исследовании В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.» // Там же. С. 271–276; Он же. Право и факт в истории крестьянского вопроса (Письмо к редактору «Руси», 1881, № 28) // Там же. С. 50–58; Он же. Происхождение крепостного права в России // Там же. С. 120–193; Он же. Отмена крепостного права // Там же. М., 1989. Т. 5. С. 339–360.
234
Ключевский В. О. История сословий в России // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1989. Т. 6. С. 249, 250.
235
В[асиле]нко В. И. Об обычном праве в земледелии в Малороссии // Юридический вестник. 1881. Сентябрь. С. 88.
236
Цит. по: Лучицкий И. Труды А. Ф. Кистяковского в области истории и обычного права // КС. 1895. Январь. С. 75–76.
237
Там же. С. 66.
238
Лазаревский А. Отрывки из черниговских воспоминаний (1861–1863 гг.) // КС. 1901. Март. С. 352; Отрывки из автобиографии Александра Матвеевича Лазаревского // Там же. 1902. Июнь. С. 470–494.
239
Волин М. С. Сорокалетие крестьянской реформы в русской печати // Проблемы истории общественной мысли и историографии: К 75-летию академика М. В. Нечкиной. С. 86–94.
240
Бердинских В. А. Ремесло историка в России. С. 169.
241
Крепостничество и воля. 1861–1911: Роскошно иллюстрированное юбилейное издание в память 50-летия со дня освобождения крестьян. М., 1911.
242
Авалиани С. Л. Библиографический указатель юбилейной литературы о крепостном праве и крестьянской реформе. 1861 – 19 февраля 1911 г. // Известия Одесского библиографического общества. 1911. Т. 1. Вып. 3. С. 76–94; Кизеветтер А. А. Обзор юбилейной литературы 1911 г. по истории крестьянской реформы 1861 г. // Научный исторический журнал. 1913. Т. 1. Вып. 2. № 2. С. 71–80; Библиография русской библиографии по истории СССР. С. 50–51, 119–120.
243
Цимбаев К. Н. Реконструкция прошлого и конструирование будущего в России XIX века: опыт использования исторических юбилеев в политических целях // Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом. М., 2012. С. 496.
244
Крепостничество и воля. С. V.
245
Там же. С. VI.
246
Нечкина М. В. Революционная ситуация в России в исходе 50‐х – начале 60‐х годов XIX в. (Исследовательская проблематика и основные задачи изучения) // Нечкина М. В. Встреча двух поколений (Из истории русского революционного движения конца 50‐х – начала 60‐х годов XIX века): Сборник статей. М., 1980. С. 344–345.
247
Зайончковский П. А. Советская историография реформы 1861 г. С. 90.
248
Дживелегов А. К., Мельгунов С. П., Пичета В. И. От редакции // Великая реформа. Т. 1. С. III–IV.
249
Беляев И. Крестьяне на Руси: исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе. М., 1879.
250
Ефремова Е. В. Иван Дмитриевич Беляев (1810–1873) // Историки России: Биографии. М., 2001. С. 150.
251
Пажитнов К. А. Дворянская историография о происхождении крепостного права в России. С. 33–84.
252
Василенко Н. П. Прикрепление крестьян в Малороссии // Великая реформа. Т. 1. С. 108–126; Он же. Крестьянский вопрос в юго-западном и северо-западном крае при Николае I и введение инвентарей // Там же. Т. 4. С. 94–109.
253
Он же. К истории малорусской историографии. С. 264–270.
254
Он же. Памяти почетного члена общества Александра Матвеевича Лазаревского († 31 марта 1902 г.) // Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах. Київ, 2006. Т. 1. С. 337–351; Он же. Предисловие к монографии А. М. Лазаревского «Малороссийские посполитые крестьяне 1648–1783 гг.» // Там же. Т. 2. С. 117–122.
255
Он же. Памяти почетного члена общества Александра Матвеевича Лазаревского. С. 351.
256
Василенко Н. П. Предисловие к монографии А. М. Лазаревского. С. 121.
257
Журба О. I. Київська археографічна комісія. 1843–1921: Нарис історії і діяльності. Київ, 1993. С. 84–85.
258
[Костомаров Н. И.] Рец. на кн.: Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов. Киев, 1861. Ч. 2. Т. 1 // Современник. 1861. № 4. С. 445–446.
259
Карпов Г. О крепостном праве в Малороссии // Русский архив. 1875. Кн. 6. С. 229–239.
260
Василенко М. П. Селяне й кріпацтво на Україні // Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах. Т. 1. С. 447–448; Василенко Н. П. Прикрепление крестьян в Малороссии. С. 126.
261
Василенко Н. П. Памяти почетного члена общества Александра Матвеевича Лазаревского. С. 351.
262
Там же. С. 350.
263
Лазаревский А. О собирании материалов для истории освобождения крестьян от крепостной зависимости в пяти губерниях Киевского учебного округа. Киев, 1901. С. 1–2.
264
Там же. С. 5.
265
Там же. С. 8.
266
Василенко Н. П. К истории реформы 19 февраля 1861 года в Черниговской и Полтавской губерниях // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. 1912. Кн. 23. Вып. 1. Отд. 1. С. 18–26.
267
Дорошенко П. Очерк крепостного права в Малороссии. С. 42.
268
Дживелегов А. К., Мельгунов С. П., Пичета В. И. От редакции // Великая реформа. Т. 1. С. Х.
269
Мельгунов С. П. Дворянин и раб на рубеже XIX века. С. 241–260; Пресняков А. Е. Дворянский и крестьянский вопрос в наказах. С. 191–203; Сторожев В. Н. Раскрепощение дворян и закрепощение крестьян. С. 80–107; Корнилов А. А. Губернские дворянские комитеты 1858–1859 гг. // Великая реформа. Т. 4. С. 146–165, – и др.
270
Еще раз о влиянии литературы на общественный и научный дискурс. В. Г. Короленко, характеризуя свое поколение, отметил присущую ему важную черту: «…мы создавали предвзятые общие представления, сквозь призму которых рассматривали действительность» (Короленко В. Г. История моего поколения. М., 1985. Т. 3–4. С. 5).
271
Довнар-Запольский М. В. Крепостники в первой четверти XIX в. С. 124–156.
272
Ключевский В. О. История сословий в России. С. 246.
273
Там же. С. 247.
274
Лотман Ю. М. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина – памятник русской публицистики начала XIX века // Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997. С. 589.
275
Довнар-Запольский М. В. Крепостники в первой четверти XIX в. С. 149.
276
В «Великой реформе» был представлен, как заметила М. В. Нечкина, «пестрый авторский состав – от историков официального „охранительного“ течения до кадетов и народников» (Нечкина М. В. Революционная ситуация в России в исходе 50‐х – начале 60‐х годов XIX в. С. 344). Впрочем, этим, конечно, не исчерпывался весь идейный спектр тогдашней общественной мысли. В связи с празднованием юбилея развернулись довольно активные дебаты, в том числе и по поводу значения реформы, причем единодушия не было и в оценке ее разработки, внедрения и последствий. Вероятно, идейные ориентации историков, а также ожесточенная полемика на страницах различных периодических изданий отразились и на научной продукции того времени, однако трудно определить, насколько напрямую. В частности, хорошо известно, что в это время уже сформировалась ленинская концепция социально-экономического развития России, реформы 1861 года, представленная и в ряде публицистических статей, в том числе и юбилейных, где слово «освобождение» бралось в кавычки, а крестьянский вопрос начинал играть роль важного фактора революционной борьбы. К сожалению, несмотря на чрезвычайное внимание советской историографии к творчеству Ленина, анализ его наследия и влияния последнего на историографическую ситуацию не может сейчас полностью нас удовлетворять. Но, доверяя Нечкиной, стоит вспомнить, что ленинская концепция, знаменовавшая оформление в России «лагеря революционного марксизма», не отразилась даже на работах М. Н. Покровского 1910–1912 годов, на трактовке им эпохи реформ, хотя и была хорошо знакома историку (см.: Там же. С. 345, 347–348). В работе «Крестьянская реформа» Михаил Николаевич «полностью оказался во власти либеральной традиции» (Она же. Реформа 1861 г. как побочный продукт революционной борьбы (К методологии изучения реформы) // Нечкина М. В. Встреча двух поколений (Из истории русского революционного движения конца 50‐х – начала 60‐х годов XIX века). Сборник статей. М., 1980. С. 398). Усвоение ленинской концепции началось, и то очень слабо, только после постановления партии и правительства 1934 года, которые указывали на ошибки Покровского и его школы (Она же. Революционная ситуация в России в исходе 50‐х – начале 60‐х годов XIX в. С. 351). Насколько органично вписывались положения Ленина в работы украинских советских историков, показал В. Г. Сарбей – на примере концепта «революционной ситуации», о чем подробнее будет сказано ниже.
277
Дживелегов А. К., Мельгунов С. П., Пичета В. И. От редакции // Великая реформа. Т. 1. С. IХ.
278
Акульшин П. В. Болотов Андрей Тимофеевич // ОМ. С. 57.
279
Каштанов С. М. К историографии крепостного права в России // История и историки: Историографический ежегодник. 1972. М., 1973. С. 126–141.
280
Iсаєвич Я. Українська історична наука: організаційна структура і міжнародні контакти // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми. Львів, 2004. С. 7–23; Советская историография / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева; науч. ред. А. П. Логунов. М., 1996; Масненко В. Iсторична думка та націотворення в Україні (кінець XIX – перша третина XX ст.). Київ; Черкаси, 2001, – и др.
281
Iсаєвич Я. Українська історична наука. С. 8–9.
282
Кравченко В. В. Передмова // Багалій Д. I. Вибрані праці. Т. 2. С. 17.
283
Дорошенко Д. I. Огляд української історіографії. С. 145–146.
284
Сарбей В. Г. Iсторіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади // УIЖ. 1987. № 12. С. 123.
285
Багалій Д. I. Iсторіографічний вступ. С. 294–295.
286
Кравченко В. В. Передмова // Багалій Д. I. Вибрані праці. Т. 2. С. 18.
287
Там же. С. 22.
288
Багалій Д. I. Iсторіографічний вступ. С. 316. Здесь, на мой взгляд, сыграл роль и конъюнктурно-субъективный фактор: кафедра М. Слабченко (Одесса) была структурным подразделением научно-исследовательской кафедры Д. Багалея (Харьков).
289
Там же. С. 318.
290
Там же. С. 318, 320.
291
Там же. С. 327.
292
Гермайзе О. Праця Київського Наукового Товариства на тлі наукового життя Наддніпрянської України // КС. 1992. № 6. С. 106–111.
293
Багалій Д. I. Iсторіографічний вступ. С. 296–307.
294
Гермайзе О. Українська історична наука за останнє десятиліття // Студії з історії України Науково-дослідчої кафедри історії України в Київі. Київ, 1929. Т. 2. С. ХIV.
295
Гермайзе О. Українська історична наука за останнє десятиліття. Т. 2. С. XVII.
296
Там же. С. XX.
297
Глушко С. Селянське питання в українській науковій літературі за останніх 10 років // Студії з історії України Науково-дослідчої кафедри історії України в Київі. Т. 2. С. LX–LXVIII.
298
Водотика С., Мазур I. Творча спадщина визначного українця: До сторіччя з дня народження Осипа Гермайзе // КС. 1992. № 6. С. 104; Оглоблин О. Українська історіографія 1917–1956. Київ, 2003. С. 24.
299
Глушко С. Селянське питання в українській науковій літературі за останніх 10 років. С. LХIII.
300
Глушко С. Селянське питання. С. LX.
301
Там же. С. LXII.
302
Там же. С. LX–LXVIII.