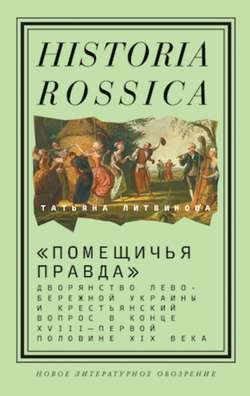Читать книгу «Помещичья правда». Дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII—первой половине XIХ века - Татьяна Литвинова - Страница 7
ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ «КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА»
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА
ОглавлениеВторой историографический период – конец 1920‐х – конец 1980‐х годов – совпадает с советской эпохой. Именно здесь происходит разграничение во взглядах между советской и западной историографиями, т. е. становление двух противоположных метадискурсивных историографических практик. До конца 1920‐х историческая мысль России развивалась в едином европейском историографическом пространстве, еще сохранялись возможности для конструктивного диалога, «в науке имело место многообразие исторических взглядов, а также представлений о путях поисков исторической истины»303, еще не произошел распад на эмигрантскую и неэмигрантскую историографию, а «сменовеховская» альтернатива и на украинской, и на российской почве могла представляться как путь к соборности, во всяком случае историографической, интеллектуальной. Последующее развитие политических реалий создало, по сути, два неравнообъемных направления, потока.
Взгляды же на крестьянский вопрос у представителей разных историографий могли совпадать. Но принципиальные разногласия не давали возможности договориться. Например, в украинской диаспорной и в советской историографии восприятие крестьянства было почти одинаковым, в целом соответствуя духу народнической традиции. Поэтому для данного периода в качестве маркера могут выступать не столько методологические позиции, сколько принадлежность к тому или иному историографическому потоку. При этом внешний фактор остается доминантным и определяет водораздел в историографии проблемы. В таком смысле конец 1920‐х годов формально не отличается от конца 1980‐х. И все же в пределах периода можно выделить ряд этапов – в соответствии с динамикой идейно-политической ситуации в СССР.
Конец 1920‐х – первую половину 1940‐х годов можно условно назвать этапом сегрегации, геттизации («гетто» не в негативном смысле), поскольку именно в это время расхождения с ведущими тенденциями европейской науки получили логическое завершение в практически полной изоляции советской историографии от мировой304. В значительной степени это было связано и с утверждением новой методологии. С точки зрения «внешних» подходов данный этап, особенно рубеж 1920–1930‐х годов, может рассматриваться и как начало марксистской историографии не только в идейном, но и в функциональном смысле305. Отныне марксизм, одна из многих теорий исторического процесса, превратился, причем не столько в результате идейной борьбы, в единственно возможную теорию, с обязательным ее усвоением. Помимо прочих, важным фактором влияния на историографическую ситуацию, думаю, стала публикация первых собраний сочинений Ленина, Г. В. Плеханова, появление лемковского издания произведений А. И. Герцена. Рубежным годом для отечественной исторической науки считается 1929‐й, год первой Всесоюзной конференции историков-марксистов, на которой «…общий с другими странами процесс развития исторического знания в СССР, в частности Украине… оказался прерван, был положен конец плюрализму мнений»306. Это не могло бы произойти без «внешних» толчков, перечислению которых уже уделено достаточно много внимания. Вмешательство партийных органов было вполне закономерно, если учесть распространение в исторической науке догматизма, вульгаризации, шаблонности мышления307.
Официальной доминантой исторического сознания в это время стало гиперкритическое отношение к дореволюционному прошлому, в том числе и историографическому. Советские историки должны были наглядно продемонстрировать, что российская история с древнейших времен вполне укладывается в марксистскую теорию социально-экономических формаций и вся пронизана классовой борьбой трудового народа с поработителями. Поэтому приоритетными направлениями становились социально-экономическая история и история революционного движения в России, которые должны были образовать идеологический каркас «новой» исторической науки308. Акцентируя на этом внимание, историки-марксисты таким образом отодвигали в тень целый ряд ключевых тем российской истории. Началось замалчивание истории нобилитета. Марксистский режим, по словам Э. Глисона, был «изначально не расположен уделять много внимания политической истории побежденного класса»309. Политическая история приобретала гротескный характер, либерализм подвергался осмеиванию. Даже любимые темы, связанные с историей рабочего класса, крестьянства, революционного движения, так идеализировались, что обычно искривлялась сама сущность исторического явления310.
Перед украинскими историками в условиях централизованного планирования научно-исследовательской работы возникла необходимость тематической переориентации, отказа от исследования целого ряда проблем, встала задача вписывания отечественной истории в «своеобразие» российского прошлого в соответствии с концепциями, разработанными ведущими «официальными» историками. Например, специалисты по социально-экономической истории Украины, без оговорок о местной специфике, взяли на вооружение закрепленную в науке усилиями Б. Д. Грекова311 марксистскую концепцию генезиса и развития феодализма в России. Однако драматизм ситуации в украинской историографии заключался в глубоком разрыве с предыдущей историографической традицией, в потере преемственности, чему способствовало «идеологическое наступление против буржуазной идеологии», начатое в сентябре 1929 года Всеукраинским совещанием по делам науки312, что происходило не без участия «старых» авторитетных историков.
Достаточно яркая тому иллюстрация – труд Д. И. Багалея «Нарис (Очерк. – Примеч. ред.) української історіографії»313, в котором прозвучала и совсем иная характеристика А. М. Лазаревского. Хотя монография эта тогда не была опубликована и не могла непосредственно повлиять на дальнейший историографический процесс, она отражает и стремительные метаморфозы писаний самого Дмитрия Ивановича, отчетливо демонстрируя соответствие подобных метаморфоз изменениям в украинской историографии рубежа 1920–1930‐х годов. Багалей также фактически определил линии расхождения с дореволюционной, а полемизируя с М. С. Грушевским о наследии «признанного шефа историков Левобережья»314 – и с украинской национальной историографией. Писалось это, очевидно, не только под действием критики в адрес самого Багалея и не только с учетом кампании, развернутой против украинских историков. Главный труд Грушевского уже не мог удовлетворить Багалея именно из‐за построения концепции не на классовом, а «на национальном стержне»315. Достаточно большой раздел об Александре Лазаревском также можно считать вполне репрезентативным для того времени: академик критически отнесся, помимо прочего, к материалам семьи Лазаревских, изданным в 1927 году без учета «марксовской переоценки и источников, и представителей украинской историографии»316, равно как и к оценкам наследия самого историка Гетманщины в статье Грушевского, где Александр Матвеевич, вместе с Н. Костомаровым, П. Кулишом, В. Антоновичем, М. Драгомановым, И. Франко, был назван одним из крупнейших украинских историков317. Не соглашался Багалей и с выводом Грушевского о влиянии работ Лазаревского на углубление социально-экономических исследований: «Его труды не могли повлиять на исследования его последователей, хотя бы только потому, что у него самого социально-экономических исследований почти не было»318. И тут же наоборот: «Книга его („Малороссийские посполитые крестьяне“. – Т. Л.) до сих пор не потеряла своего значения и по своим материалам, и даже по некоторым выводам»319.
О каких выводах шла речь, трудно сказать. Ведь главный из них, о генезисе крепостного права, Багалей уже не поддерживал. Если раньше концепция Лазаревского относительно происхождения крепостного права казалась Багалею новой и верной320, то на рубеже 1920–1930‐х годов она уже «абсолютно не удовлетворяет, потому что здесь не сказано, что в России крепостничество появилось гораздо раньше пол[овины] XVII века»321. Итак, «схема образования крепостных отношений», предложенная Лазаревским, теперь воспринималась Багалеем как «слишком, так сказать, элементарная и на сегодняшний день полностью не удовлетворяющая, поскольку не имеет под собой твердой социальной базы, не раскрывая в основном ни роли украинской старшины, ни роли дворянского централизованного правительства»322.
В «Очерке» отрицалось и народничество Лазаревского, которому не прощалась свобода от политики, скептическое отношение «к национальным украинским организациям» (т. е. к «Старой громаде»), то, что он «резко выступал против национального пыла, пережитков национальной романтики», «сторонился сколько-нибудь ясной и наглядной увязки своих исторических исследований с теми общественными и политическими вопросами и движениями, которые волновали современное общество»323.
Отныне Лазаревский превратился в представителя дворянско-буржуазных украинских историков, «малоросса», «идеологически был связан с дворянством и буржуазией, которые поддерживали самодержавие». В исследованиях руководствовался якобы исключительно классовыми дворянскими интересами324.
Отличались у Багалея оценки наследия «главного историка Гетманщины» и в области истории элиты. Нарекания вызвала идеализация «украинского дворянства», признание «малороссийского дворянства» «почти единственной силой в обществе», «недопустимо широкие» рассказы «о всех его представителях», что объяснялось классовым дворянским подходом. Книгам Лазаревского не хватало «важнейшего для пролетарского читателя – …оценки исторических явлений со стороны пролетариата того времени и беднейшего крестьянства»325. При этом труды последователей «шефа» – В. А. Мякотина и В. А. Барвинского – были просто квалифицированы как «явно враждебные марксизму»326.
Итак, на рубеже 1920–1930‐х годов народническое направление исторической науки и ее безусловный лидер в исследовании Левобережной Украины приобрели новое историографическое качество. Они вписывались в суперсинкретичный поток украинской националистической историографии. Таким путем украинские советские историки не просто отказывались от наследия предшественников. В тех условиях маркировка, выставленная Лазаревскому и его направлению, фактически превращалась в клеймо, что автоматически выводило их из историографического оборота, образуя в нем пропасть и заставляя искать новые континуитеты. Трансформации историографического образа историка Гетманщины и поднятой им проблематики, в свою очередь, влияли и на изменения в структуре крестьянского вопроса.
Вместе с тем, несмотря на новые методологические предписания и необходимость работать в русле сталинской концепции истории, такой прерывности у российских историков, думаю, не произошло. Хотя советской историографии и была чужда сама мысль о научной преемственности, тем не менее еще многие десятилетия после революции, пока жили или имели возможность работать историки «старой формации», «традиция давала о себе знать, сказываясь в достаточно высоком профессионализме и общей культуре, в работах высокого научного уровня, в частности в области медиевистики»327. А. Я. Гуревич считал, что русская школа аграрной истории Средневековья, частично изменяя свои общие подходы и перестраивая исследовательскую методику, просуществовала до 1950–1960‐х годов328.
Не выпадали из обоймы достижений российских ученых и произведения их дореволюционных предшественников. В. О. Ключевский, один из трех «богатырей российской науки истории в XIX в.», «оставался неизменно популярным на протяжении почти всего следующего, XX столетия»329. М. М. Сафонов, анализируя курс лекций С. Б. Окуня по истории СССР, изданный в 1939 году и знаменовавший становление марксистской концепции внутренней политики российского правительства начала XIX века, также отметил не только опору историка на подходы М. Н. Покровского и А. Е. Преснякова, но и попытку «использовать всю сумму фактов, накопленных дореволюционными историками различных направлений»330. Б. Ю. Кагарлицкий вообще считает, что после разгрома «школы Покровского» советская историческая наука в основном вернулась к традиционным концепциям исследователей XIX века, лишь украсив их цитатами из Маркса, Ленина и Сталина331.
В значительной степени заслуга сохранения преемственности признается за Н. Л. Рубинштейном332, «Русская историография»333 которого и до сих пор удерживает статус одного из самых фундаментальных историко-историографических исследований. Книга, достойная «первого ряда историографической классики», была опубликована в 1941 году и стала первым общим курсом российской историографии, подготовленным в послеоктябрьский период334. Здесь было представлено творчество выдающихся российских историков – от В. Н. Татищева до Г. В. Плеханова, Н. А. Рожкова и многих других. Несмотря на резкую критику, развернувшуюся уже в конце 1940‐х годов, особенно во время кампании «по борьбе с космополитизмом», историографическая концепция Рубинштейна в целом закрепилась в советской исторической науке и нашла отражение в других историко-историографических трудах, в том числе и украинских авторов.
Учитывая историографическое значение титанического труда Н. Л. Рубинштейна, в контексте данной темы следует выделить ряд моментов: 1) концепции социально-экономической истории наиболее ярких выразителей «народнической», «буржуазной» историографии, в частности «либерально-народнического» направления, «буржуазного экономизма», «легального марксизма», «экономического материализма», не отождествлявшегося с марксизмом, были довольно основательно проанализированы; 2) поскольку проблемно-историографический принцип не был доминирующим, элементы крестьянского вопроса «растворились» в ходе анализа специфики того или иного течения, направления, школы; 3) работы В. И. Семевского и его школы по истории крестьянства и в то время сохраняли видное место в историографии вопроса; 4) не упоминая Ключевского, Рубинштейн фактически повторил его оценки наследия Семевского, добавив тезис об истории в конкретном развитии классовых противоречий; 5) линия историографической эволюции проблемы проводилась Рубинштейном от Семевского к его ученице И. И. Игнатович, которая, в отличие от учителя, отказалась от «общей постановки крестьянского вопроса» и в своих трудах перешла к истории крестьянства и крестьянских движений; 6) украинский историографический материал не попал в поле зрения Рубинштейна, специальный раздел, посвященный Н. И. Костомарову, касался преимущественно изучения им русской истории.
Итак, этот анализ не только суммировал, но и определял новые приоритеты. Главное – изучение идеологического аспекта крестьянского вопроса начиналось с В. И. Семевского. Полнота его трудов, как считал Рубинштейн, в значительной степени освобождала историка от «повторения проделанной автором работы, от обращения к использованным им источникам». Советским историкам оставалось только поставить проблему в контекст классовой борьбы, а анализ позиций авторов тех проектов решения крестьянского вопроса, что уже введены в оборот, провести с точки зрения классовых интересов и того практического смысла, который в эти проекты вкладывался. Историю идеи необходимо было рассматривать с точки зрения общественного движения335. Возражая против ограничения Семевским крестьянского вопроса проблемой эмансипации, Рубинштейн сам фактически «растворял» данный вопрос в истории крестьянства и истории общественной мысли, где приоритет оставался на стороне истории социальных движений. Такой подход и направил исследовательское внимание в указанное русло.
Украинские историки на этом этапе историографических трудов не писали. Как отмечал В. Г. Сарбей, ни Институт истории, ни Институт истории Украины не занимались специальной исследовательской работой в области историографии. Основные усилия этих учреждений были направлены на подготовку обобщающих работ по истории Украинской ССР336, к чему подталкивали и отказ от концепции М. С. Грушевского, и необходимость вписать украинскую историю в общегосударственный контекст. Поэтому, как выглядело восприятие наследия предшественников украинскими советскими специалистами по социально-экономической истории, можно представить на основе историографического вступления к монографии И. А. Гуржия, которая (вместе с работами Т. Журавлевой, А. Пономарева, Е. Черкасской, И. Шульги) знаменовала восстановление исследований социально-экономической истории дореформенной эпохи, но уже на следующем этапе, ограниченном с учетом историографической традиции серединой 1940‐х – серединой 1950‐х годов337. Современные историографы также отмечают, что именно с этого времени для украинской науки и культуры настали «особенно драматические дни». С постановлением ЦК компартии (большевиков) Украины от 1947 года «О политических ошибках и неудовлетворительной работе Института истории Украины Академии наук УССР» связывается очередной раунд «уничтожающей критики „старых“ работ» (т. е. обобщающих курсов, созданных К. Гуслистым, Н. Супруненко, Ф. Ястребовым, Н. Петровским и др.) и изъятие их из библиотек338.
Вместе с тем именно в послевоенный период советское руководство пыталось поддерживать положительный имидж страны. Истории здесь отводилась не последняя роль. Как считают историки, не только в условиях шовинистического разгула 1940‐х – начала 1950‐х годов, но и в последующем пропаганда беспокоилась о придании историческому облику Российской империи цивилизованно-европейского вида и привлекательных черт339. Россия теперь должна была восприниматься не как «тюрьма народов», а как «родина слонов». Побочным результатом этого стала возможность некоторой ревизии – «реабилитации» если не политики царской власти и господствующего сословия, то по крайней мере отдельных его представителей. Это позволило расширить круг «прогрессивных деятелей». Например, А. Т. Болотов уже трактовался не как ярый крепостник, а как естествоиспытатель, представитель передовой отечественной агрономической науки340. Смягчались и определения ряда общественно-политических направлений, в частности славянофильства, расширились возможности для работы в архивах и т. д.341 Итак, с конца 1940‐х годов, вопреки потрясению, которое в очередной раз перенесла историческая наука от борьбы с «безродными космополитами» и «буржуазными националистами»342, закладывались основы для изменения историографической ситуации в целом.
Докторская диссертация (1953) и монография (1954) И. А. Гуржия «Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст.» («Разложение феодально-крепостнической системы в сельском хозяйстве Украины первой половины XIX в.») – этот труд выбивался из общего потока работ украинских историков того времени не только своей проблематикой, но и исключительно пространным историографическим очерком, который дает возможность понять направление историко-историографической мысли в украинской исторической науке. В конкретно-исторической части труда вернулся в научный оборот крестьянский вопрос, которому посвящен особый подраздел. Однако он фигурировал не как самостоятельная проблема, а как составляющая концепта кризиса и разложения феодально-крепостнической системы. Именно под таким углом зрения рассматривалась история дореформенного периода. История же крестьянского вопроса фактически отождествлялась с историей крестьянства343.
Гуржий подверг анализу наследие российских и украинских «буржуазных историков», ученых «из лагеря народников», и в первую очередь Семевского, оценивая его, хотя и без ссылки, по Н. Л. Рубинштейну. Были упомянуты и «легальные марксисты» – П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский, а также их последователи. Упреки им делались на основе ленинских статей, с неоднократным рефреном об ошибочном понимании процесса разложения феодально-крепостнической системы, недооценке решающего значения антикрепостнической борьбы. Но если русскую историографию Гуржий критиковал довольно спокойно, то в отношении украинской был непримирим, употребляя довольно резкие высказывания, оценки, характеристики. Весь удар приняли на себя за украинских историков М. Е. Слабченко и А. П. Оглоблин, которые «специализировались главным образом на фальсификации вопросов истории экономики»344. В историографическом очерке Гуржий совсем не упомянул А. М. Лазаревского и его последователей, хотя в работах, не имевших широкого историографического резонанса, иногда прямо ссылался на его труды, а также на некоторых других «буржуазных» историков345. Итак, новыми ориентирами для украинских ученых теперь стали работы П. И. Лященко, Н. М. Дружинина, С. Г. Струмилина, П. А. Хромова346. Изменяться такая ситуация будет только на следующем этапе – середина 1950‐х – начало 1970‐х годов, – когда начнет понемногу восстанавливаться связь с народнической историографией.
Выделение этого этапа, так же как и внеисториографические факторы, его определяющие, не требует объяснений. Об этом уже достаточно много сказано историками исторической науки. Напомню лишь, что во времена относительной либерализации научно-организационная зависимость украинских историков от Москвы, от «центра» не только не ослабела, но даже увеличилась347. Хотя этот период и определяется иногда как историографический «микроренессанс», все же, думаю, научные ориентиры украинских историков того времени формировались преимущественно не в результате осознания потребностей разработки тех или иных проблем отечественной истории, а партийными постановлениями, рекомендациями центральных академических институтов и «официальных» историков348. Поэтому, несмотря на попытки современных историографов выделить группу «непровластно настроенных историков в УССР», «фрондирующих украинских исследователей», «нонконформистов»349 (хотя это и вступает в противоречие с конкретными биографиями350), мы видим все более тесную корреляцию между научными результатами украинских ученых и «указаниями» сверху. Более того, создается впечатление, что украинская историография прочно закрепилась в фарватере российской, все больше превращаясь в провинциальную. Украинские историки уже не ставили самостоятельных исследовательских задач, хотя бы в виде создания новых обобщающих курсов, а только успевали реагировать на критику и отвечать на столичные научные инициативы, подбирая местный материал для иллюстрации тех или иных концепций общегосударственного значения.
Историографическим началом этого этапа можно считать две статьи-передовицы, важные в контексте данной темы, которые появились в 1955 году в «Вопросах истории». Ими, с одной стороны, подводился итог уже сделанному в области истории украинского народа и истории общественной мысли, а с другой – представлялось ви́дение перспектив дальнейших исследований. Констатации и установки подобных статей воспринимались как ориентир и руководство к действию.
Статья-призыв «За глубокое научное изучение истории украинского народа»351 фактически стала первым после длительного перерыва осмыслением состояния развития украинской исторической науки. Настойчивое подчеркивание «слабостей» украинской советской историографии было призвано изменить ситуацию. В данном контексте важными представляются нарекания по поводу невысокого уровня историографической проработки исследований, по поводу невнимания к источникам (в том числе и опубликованным) и отсутствия их критических обзоров352. По сути, прозвучал призыв, наряду с углублением критики буржуазно-националистической историографии, восстанавливать преемственность и прекращать практику игнорирования работ Н. И. Костомарова, В. Б. Антоновича, Д. И. Багалея, А. Я. Ефименко, А. М. Лазаревского, М. А. Максимовича. В перечне приоритетных сюжетов крестьянский вопрос в этой «передовице» не назывался, очевидно частично растворившись в важной для изучения социально-экономической истории Украины.
Украинские историки оказались весьма чувствительными и к тематическим определениям, и к советам ликвидировать элементы перестраховки, продемонстрировать настоящую научную смелость. «Передовица» обсуждалась на заседании Ученого совета Института истории 17 октября 1955 года, по результатам чего была подготовлена подробная информация о принятых мерах и планах отделов Института. Несколько позже появились рекомендации со стороны координационной комиссии по истории при Академии наук Украинской ССР (АН УССР)353. Результатом этого стали статьи в основанном в 1957 году издании «Український історичний журнал», монографии об историках, в том числе и о Лазаревском, где он снова определялся как «выдающийся»354, обобщающие работы по украинской историографии, а также ряд конкретно-исторических исследований, в первую очередь по предложенной «центром» проблематике.
Передовица девятого номера «Вопросов истории» за тот же 1955 год355, которую историки исторической науки считают этапной вехой развития советской историографии отечественной общественно-политической мысли и одновременно отправной точкой ее «оттепелевых» трансформаций356, была посвящена анализу состояния разработки истории общественной мысли. Подытоживая достижения, здесь отмечали рост интереса к этому направлению в целом, плодотворную работу по изданию источников, в частности произведений Н. Г. Чернышевского, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, очередных томов материалов серии «Восстание декабристов», завершение третьего тома «Дела петрашевцев». В то же время много места уделялось анализу недостатков и начертанию программы дальнейших исследований. В перечне наиболее актуальных тем-задач близких к проблемам данной книги не оказалось, поскольку история общественной мысли приводилась в жесткое соответствие ленинской схеме русского освободительного движения. Но важно отметить, что в данном случае все же шла речь о необходимости глубокого исследования взглядов не только выдающихся «прогрессивных» русских мыслителей, но и менее известных представителей общественной мысли различных идейных течений, в том числе «консервативной и реакционной идеологий». Хотя это и было нужно лишь для раскрытия их «негативной сущности», все же увеличивались возможности смягчения оценок, расширения тематического, персонологического спектра.
Программные статьи и дискуссии, разворачивавшиеся на страницах официальных профессиональных изданий, также были призваны направить историографическое движение в правильное русло. Причем, с одной стороны, наблюдалось оформление определенного полемического поля, многообразие подходов к трактовке целого ряда проблем социально-экономической истории, в частности представителями «нового направления»357, звучали призывы к научности, объективности, историзму358, а с другой – настойчивыми напоминаниями придерживаться ленинской концепции исторического развития России жестко указывался «единственно верный» ракурс научных исследований.
В разработке истории дореформенной эпохи ведущими, главными были уже утвержденная ранее проблема кризиса, разложения феодально-крепостнической системы, а равно и генезиса капиталистических отношений, и концепция «революционной ситуации». В подготовленном Институтом истории АН УССР и вышедшем в 1958 году труде «Основні проблеми розвитку (развития. – Примеч. ред.) історичної науки в Українській РСР» впервые были осуществлены масштабное планирование и широкая координация научной работы в республике359. Одним из трех важнейших направлений в области истории феодализма, требующих немедленных исследовательских усилий украинских ученых, называлось разложение феодально-крепостнической системы и развитие капиталистических отношений в Украине во второй половине XVIII – первой половине XIX века360. Интерес к этому периоду объяснялся, кроме наличия источниковой базы, принятой датировкой процесса генезиса капитализма361. Причем с конца 1950‐х – начала 1960‐х годов внимание историков с проблем возникновения мануфактурной промышленности, первоначального накопления капитала, формирования пролетариата, развития всероссийского рынка переключилось на аграрный аспект, на исследование социально-экономических отношений на селе362.
Этому способствовала работа созданной еще в 1950 году при Институте истории АН СССР Комиссии по истории земледелия, издававшей «Материалы по истории земледелия СССР», «Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства», а также деятельность симпозиумов по аграрной истории Восточной Европы, где началась реальная дискуссия и определялись главные проблемы, требующие коллективного внимания историков-аграрников363. Крупным историографическим событием стало начатое в 1959 году издание многотомного труда под редакцией Н. М. Дружинина – «Крестьянское движение в России в XIX – начале XX века». В течение 1959–1968 годов вышло десять томов этой «дружининской» документальной серии364. Привлекали внимание к аграрной проблематике и дискуссии конца 1950‐х – начала 1960‐х годов по проблеме расслоения крестьянства, разложения феодализма и генезиса капитализма365. Но, несмотря на разворот в сторону аграрной составляющей проблемы кризиса и разложения крепостнической системы, аграрные отношения исследовались гораздо меньше, «практически их целостная характеристика содержалась лишь в учебной литературе и в общих курсах. <…> Специально изучались главным образом классовая борьба и освоение окраин страны»366.
Ленинская концепция «революционной ситуации» начала активно внедряться исследовательской группой, созданной в 1958 году при Институте истории АН СССР под руководством академика М. В. Нечкиной, и вскоре стала господствующей, особенно в изучении истории общественной мысли и публицистики середины XIX века367. Явление, по наблюдениям Нечкиной, до 1940‐х годов не замеченное ни в научной, ни в учебной литературе368, теперь было призвано стать «очками», сквозь призму которых рассматривалась предреформенная Россия.
Тематическое же наполнение концепта было зафиксировано в статье Н. И. Мухиной, где при помощи метода библиографической статистики обобщались штудии по данной проблеме с конца 1917 года по апрель 1959-го369. Автор представила основные блоки, которые охватывали работы по экономической истории, истории массового и общественно-политического движения, реформе 1861 года, культурным явлениям, кризису правительственной политики, самóй революционной ситуации и т. п. С оговоркой об определенной ограниченности метода, избранного для анализа, делался вывод о возможности определить тенденции для заполнения в дальнейшем выявленных лакун. В данном контексте важно отметить, во-первых, значительное доминирование работ по истории общественного движения (70%). Сюда вошли исследования по истории публицистики, революционного, либерального, национально-освободительного движений. Подавляющее большинство этих работ (665) касалось взглядов и идеологии Чернышевского (341 позиция), Добролюбова, Герцена, Огарева, только восемь – либерального движения и ни одна – «реакционного движения и идеологии»370. Второе место, со значительным количественным отставанием, занимали работы по истории реформы 1861 года (142). Во-вторых, показательной была и «картина географического распределения сил советских историков» – в Москве и Ленинграде было издано 1187 работ. На втором месте из 94 городов оказался Киев, которому принадлежало всего 62 позиции. Кроме столицы Украины, в перечень также попали Харьков (17 позиций), Одесса и Львов (по 7), Днепропетровск (4), Ужгород и Чернигов (по 1), что говорит о незначительном внимании украинских специалистов к истории первой половины XIX века. Правда, в данной статье учитывались только русскоязычные публикации.
Почти директивный характер методологических рекомендаций в отношении изучения проблемы «революционной ситуации» довольно ярко демонстрирует статья М. В. Нечкиной 1961 года371, канализировавшая в необходимое русло исследования, в частности, реформы 1861 года, одного из центральных сюжетов данной концепции. Устанавливался достаточно жесткий канон и последовательности изложения событий, и их оценок. Насколько укоренившимися уже в начале 1960‐х годов были основные положения данной концепции, свидетельствует открытое письмо Н. М. Дружинина к Франко Вентури, где не только категорически отрицалась данная итальянским историком оценка Крестьянской реформы как «Великой», но и существенно уточнялись мотивации интереса советского академика к истории крестьянства. Эта реформа не могла так вдохновить Дружинина, как предполагал Вентури. Ведь, несмотря на то что она действительно может восприниматься как рубеж двух эпох, «…и показания современников, и данные правительственных обследований… и богатая исследовательская литература давно сорвали ореол „величия“ с актов 1861 г.». Интерес же к истории крестьянства возник у советского ученого «под непосредственным влиянием крестьянского движения»372.
Степень усвоения украинскими историками концепции революционной ситуации проанализировал В. Г. Сарбей373, обратив внимание как на достижения, так и на пробелы, недостатки. К последним ученый отнес вялость дискуссий по вопросам хронологии данного феномена, неравномерность разработки выделенных Лениным признаков революционной ситуации, пренебрежение ленинскими замечаниями при изучении деятельности «великих революционеров, и среди них Т. Г. Шевченко», упрощение или модернизацию методологических положений классика, искажение мыслей вождя, выборочное, произвольное цитирование, изменение цитат, когда, например, дворяне, требовавшие от правительства политических реформ, превращались в первом томе двухтомника «Iсторія Української РСР» (1967) в «широкие общественные круги». Замечания по поводу суженной трактовки ленинских положений прозвучали и в адрес Н. Н. Лещенко, В. П. Теплицкого, Д. П. Пойды, авторов таких известных монографий, которые и до сих пор составляют историографическую базу многих исследований по истории Крестьянской реформы в Украине.
Вместе с тем Сарбей через трактовку ленинских работ, как бы прикрываясь «методологическими указаниями» вождя, продемонстрировал довольно широкое понимание проблем изучения предреформенной и пореформенной истории и показал, в каком направлении могла бы двигаться украинская историография при благоприятных обстоятельствах. В частности, историк подчеркнул избыток внимания украинских специалистов к истории классовой борьбы. В целом высоко оценивая труд Н. Н. Лещенко «Крестьянское движение в Украине в связи с проведением реформы 1861 года», он выразил сожаление относительно неспособности автора
избежать при анализе фактического материала распространенной в определенной степени в советской историографии тенденции к преувеличению размаха крестьянского движения периода подготовки и проведения реформы374.
Для Сарбея слова «революционная ситуация» не были абстракцией. Под ними понимался насыщенный переломный период, требующий всестороннего исследования:
Как и люди 50–60‐х годов XIX века, так и весь комплекс событий и явлений, которые составляют общее понятие революционной ситуации того времени, очевидно, исходя из ленинских установок, требует изучения и предварительного, и последующего хода исторического процесса375.
И главное – тесно связывая революционную ситуацию с ликвидацией крепостного права, ученый важной составляющей проблемы считал кризис «верхов», кризис «господствующего класса». Он настаивал на необходимости специального ее анализа, т. е. на следовании ленинскому замечанию относительно конфликта дворянства с самодержавием, высказанному в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма»: элита стремится ограничить абсолютную власть монарха с помощью представительских учреждений. «Об этом конфликте, – отмечал историк, – в украинской советской историографии нет ни одного исследования»376. К сожалению, нет и по сей день.
Понять, какую долю в создании картины дореформенной эпохи в целом составляли работы украинских историков и в каком направлении продвигалось изучение социально-экономической, в частности аграрной, истории и истории общественной мысли, позволили масштабные «Очерки истории исторической науки в СССР»377, отражавшие образ официальной науки и своеобразно подводившие итоги развития советской историографии378, а также многочисленные историко-историографические обобщения достижений за отдельные периоды, на отдельных крупных направлениях, «актуальные проблемы», написанные как российскими, так и украинскими авторами. Не останавливаясь подробно на характеристике каждой отдельной работы, выделю лишь наблюдения, важные в контексте данной темы. При этом отмечу, что историко-историографическая продукция второй половины 1950‐х – начала 1970‐х годов и следующего этапа – начала 1970‐х – конца 1980‐х – в содержательной части по актуальным в данном случае проблемам мало чем различается, что оправдывает ее обобщенную характеристику. Особенно это касается работ по истории украинской исторической науки, хотя они, к сожалению, не отражают изменений, произошедших на последнем этапе в исследовании даже русской истории.
Можно говорить, что этот этап, особенно со второй половины 1970‐х годов, отмечен историографической ассимиляцией, которой подверглись и советские исследователи, в первых рядах – специалисты по всемирной истории. Не случайно современные историографы, перечисляя новации периода «историографического плюрализма», рядом с французской историей ментальностей, британской и североамериканской психоисторией, новой немецкой социальной историей, американской интеллектуальной историей, называют российскую школу исторической антропологии379. Почти не отставали советские русисты от мировой исторической науки и в плане усвоения новых «технологий», подтверждением чего стали, например, работы, выполненные с применением ЭВМ, сборники «Математические методы в исторических исследованиях», что было ярким проявлением «идеологии профессионализма», все более популярной с 1970‐х годов – в условиях «снижения тона», «расшатывания „ментальных опор“ марксизма», когда начиналось «постепенное восстановление общности в духовном развитии России и Запада»380. Такие направления, как «неофициальная медиевистика»381 и Московско-Тартуская школа семиотики, стали не только символом тематического и методологического обновления, но и свидетельством того, что советские ученые-гуманитарии «своими тропами» возвращались «на большак мировой культуры»382.
Важным в контексте темы можно считать и появление в 1970‐е годы критических рецензий известного знатока эпохи «просвещенного абсолютизма», С. М. Троицкого, на труды американских ученых, Р. Джонса и М. Раева, посвященные истории русского дворянства XVIII века. С рядом положений этих трудов рецензент вынужден был согласиться383. Своеобразным ответом зарубежным коллегам были работы по истории дворянства, созданные самим Троицким384. На украинском материале еще в 1970‐е годы, на Федоровских чтениях в Москве, Я. Д. Исаевич показал, как необходимо применять новые в то время методы социальной истории.
Современные историографы отмечают, что со второй половины 1950‐х годов было положено начало разнообразным контактам отечественных ученых-историков, в том числе и через участие в международных конференциях385, что расширяло научные горизонты, стимулировало исследовательский поиск. Однако это мало сказалось на украинских историках, работы которых не всегда соответствовали должному уровню даже советской историографии386. Осознание отставания от общесоюзного уровня в разработке истории «феодальной формации в Украине» и истории капитализма чувствовали и сами украинские историки, констатируя отсутствие монографий, сокращение количества работ по истории XIX века, в то время как в целом по стране здесь были достигнуты значительные успехи387. Как «слабое место» проблемно-обобщающих и монографических исследований украинской истории воспринимались также «недооценка авторами того, что сделано их предшественниками» и «отсутствие аналитических, глубоких обзоров использования источников и литературы»388.
Наиболее широко проблемы истории феодализма в Левобережной Украине были поставлены В. А. Романовским. Помимо прочего, он назвал – как малоразработанные и требующие тщательного изучения – проблемы формирования крупных земельных владений в крае, типов и форм хозяйства, форм землевладения, установившихся в середине XVII века. Все это, утверждал историк, необходимо исследовать не с формально-правовой, а с экономической точки зрения, поскольку «гораздо важнее изучение не различных юридических формул, определяющих характер владения маетностями… а отношения землевладельца и непосредственного производителя материальных благ»389. Однако призывы Романовского (который, правда, после ссылки работал до конца жизни в Ставрополе), как и его постановки проблем, остались незамеченными.
Определенным подтверждением отставания можно считать то, что в историко-историографических обзорах состояния исторической науки в СССР и учебниках по историографии анализ работ украинских историков почти полностью отсутствовал. Лишь иногда назывались имена С. Я. Борового, И. А. Гуржия, В. А. Голобуцкого, Н. Н. Лещенко, А. З. Барабоя, С. Н. Злупко, А. С. Коциевского, С. А. Секиринского390. В таком разделе «Очерков истории исторической науки в СССР», как «Историография русского революционного движения и общественной мысли XIX в.», украинские авторы вовсе не упоминались, несмотря на скорее библиографический, чем историографический характер «Очерков»391. Это же можно сказать и о статьях, посвященных достижениям советской исторической науки в изучении истории феодализма и капитализма392. Анализ состояния разработки во второй половине 1970‐х годов социально-экономической истории, истории культуры и общественной мысли XVIII–XIX веков также обошелся почти без трудов по истории Украины393. Из истории крестьянства и рабочего класса этого периода не названо ни одной работы, чего нельзя сказать о монографиях по истории Беларуси, Литвы, Молдавии, различных регионов России.
Разумеется, в сравнительно коротких очерках трудно было учесть все, что сделано в рамках огромного цеха советских историков. Но в специальном исследовании, где представлялись труды второй половины 1970‐х годов по основным проблемам истории народов СССР, в частности истории крестьянства, аграрных отношений, классовой борьбы, не указано ни одного труда по истории Украины «эпохи феодализма», а по социально-экономической истории «периода зарождения капитализма» встречается ссылка только на одну монографию – об экономических связях Северной Буковины с Россией и Надднепрянской Украиной в XIX – начале XX века394. Среди исследований революционной ситуации, названных в библиографическо-статистической работе Н. И. Мухиной за 1917‐й – начало 1959 года, также нет ни одного по Украине, хотя другие союзные республики упомянуты395. Тематическая роспись всех статей за 1960–1986 годы, публиковавшихся в сборниках «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.», также содержит лишь три работы по украинской тематике396.
К сожалению, и специальные обзоры украинской историографии не слишком информативны в отношении изучения ранних периодов истории Украины. В частности, А. Г. Шевелев, подытоживая успехи украинских историков за 1970–1974 годы, в первую очередь подчеркнул приоритет разработки истории советского общества397. Очевидно, воспринимая такую ситуацию как вполне нормальную, историк фактически еще раз зафиксировал хронологический перекос в разработке истории Украины, на который и до того обращали внимание – например, Ф. П. Шевченко, анализируя в 1964 году состояние дел с «Українським історичним журналом» на заседании дирекции Института истории АН УССР и Института истории партии при ЦК компартии Украины398. По мнению А. И. Гуржия и А. Н. Доника, с 1972 года «уклон журнала в сторону современной тематики стал неизбежным», а преимущества в публикациях по истории средневековой Украины были на стороне истории «классовой борьбы трудящихся масс против угнетателей»399. Не случайно в историко-историографических трудах украинских ученых анализу исследований по истории Украины второй половины XVIII – первой половины XIX века также отводился минимум их общего объема. Показательна в этом отношении «Историография истории Украинской ССР». Но, в отличие от предыдущих историко-историографических работ, здесь нашлось место для концепта «крестьянский вопрос», который определен как «центральный в социально-экономической и политической жизни страны»400. И хотя пояснения о содержании крестьянского вопроса отсутствуют, однако, судя по тексту и ссылочному аппарату, оно фактически отождествлялось с историей крестьянства, в которой важнейшей составляющей была классовая борьба.
В контексте темы представляет интерес обзор историографии падения крепостного права, выделенный в самостоятельный сюжет Н. Н. Лещенко. Отбросив ложную скромность, основное внимание он уделил анализу собственной монографии, лишь упомянув дореволюционных предшественников, а также работы В. П. Теплицкого и Д. П. Пойды. Несмотря на констатацию того, что «проблема падения крепостного права в советской историографии изучена обстоятельно», здесь были обнаружены и «некоторые вопросы, нуждающиеся в дополнительном, более глубоком исследовании»401. К сожалению, перечень этих вопросов оказался достаточно ограниченным и касался преимущественно истории реализации Крестьянской реформы.
Получить более детальную картину помогли бы проблемно-историографические исследования. Но, как заметил В. Г. Сарбей, подытоживая развитие украинской историографии за семьдесят лет, «проблемные историографические исследования <…> не получили в Украинской ССР системного характера и вполне определялись личными предпочтениями ученых»402. Поэтому уровень интенсивности изучения крестьянского вопроса, его возможные сюжетно-тематические доминанты выяснялись по проблемно-историографическим обзорам советских русистов, регулярно появлявшимся с 1960‐х годов как результат серьезного эмпирического накопления и дифференциации исторического знания. Это не только отдельные разработки, но и историографические разделы монографий, диссертаций, которые также проверялись на наличие «украинского следа».
Крестьянская реформа 1861 года в качестве центральной в контексте первой «революционной ситуации» была осмыслена в ряде проблемно-историографических исследований, в первую очередь П. А. Зайончковского, Б. Г. Литвака, Л. Г. Захаровой403, ставших почти классикой. Не вдаваясь в детали анализа, поскольку это неоднократно делали историки Крестьянской реформы, замечу лишь, что историографическая канва этих работ почти совпадает. Это же в основном касается оценочных и теоретико-методологических моментов. В данном случае важно отметить, что, во-первых, в указанных обзорах не только не названы исследования по истории крестьянского вопроса, но и отсутствует само это словосочетание. Во-вторых, одним из признаков изменений в историографии проблемы считалось увеличение региональных исследований, которые проводились на местных архивных материалах, необходимость чего, кстати, еще в 1941 году подчеркивал Е. А. Мороховец404. В-третьих, украинские материалы попали в поле зрения историографов. Но среди самых ранних фигурировала лишь одна из работ А. В. Флоровского – «Воля панская и воля мужицкая. Страницы из истории аграрных волнений в Новороссии. 1861–1863», отнесенная Зайончковским к краеведческим исследованиям. Литвак же остановился на этой брошюре более продолжительно, подчеркивая «завидную трезвость» анализа источников из одесских архивохранилищ. Другие работы Флоровского, также написанные на основе одесских архивов405, почему-то не упоминались. Отмечая в украинской науке «преобладание тематики крестьянского движения в период реформы», историографы указывали на диссертацию М. И. Белан и статьи Ю. Я. Белан, М. М. Максименко, Д. П. Пойды. Заметным событием не только для украинской исторической науки считалась монография Н. Н. Лещенко. Захарова же не упомянула ни одного исследования украинских авторов. Это можно сказать и о специальных проблемно-историографических обобщениях по истории классовой борьбы и общественно-политического движения406.
Нужно также обратить внимание на один симптом, важный для историографических очерков 1960‐х годов. Подчеркивая приоритетность исследования экономической истории, истории классовой борьбы, освободительного движения, положения рабочих и крестьян, ученые все чаще писали о необходимости избегать упрощения, выявлять различные причины исторических явлений, что требовало заполнения лакун407, разработки целого ряда проблем, к которым относили и «идеологию господствующих классов»408, «кризис верхов», «идейный кризис дворянства», «либеральное движение, борьбу различных группировок внутри господствующего класса»409. Историкам реформы рекомендовалось «провести сравнительный анализ многочисленных индивидуальных и групповых проектов освобождения крестьян и проектов губернских комитетов с данными уставных грамот по имениям этих же помещиков для выяснения истинной картины удовлетворения как классовых, так и личных интересов помещиков реформой 1861 г.»410.
В изучении различных идейных направлений, если судить по тематике репрезентативного цикла «Революционная ситуация в России 1859–1861 гг.», существенных сдвигов не произошло411. Составители сборника «Общественная мысль: исследования и публикации» также подчеркивали, что «недостаточно изучены не только мыслители славянофильского круга, представители охранительного консерватизма, но и революционеры-демократы»412. Однако крестьянский вопрос, хотя и в контексте центральных проблем, продолжал советскими историками исследоваться, как в явном, так и в «скрытом» виде413. Ощутимой была и потребность хотя бы утилитарно вернуть дворянскую составляющую крестьянского вопроса. Иногда, особенно в контексте разработки истории Просвещения в России, общественной мысли, внутриполитической и экономической истории, крестьянский вопрос становился центральным сюжетом, предметом первостепенного исследовательского внимания414. Отмечу, что большинство этих работ напрямую к истории Украины не относятся. Но без них вряд ли возможно понимание уровня интенсивности изучения крестьянского вопроса, определение его структуры, доминант, закрепившихся в 1960–1980‐е годы.
Позиции историков, для которых тема крепостного права и положения крестьян была одной из центральных, в концентрированном виде изложены в монографии М. Т. Белявского «Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева», где доказывалось, что вся политика Екатерины II «была направлена исключительно на сохранение и укрепление крепостничества в самых жестких его формах»415. Но в первую очередь эта книга все же посвящена рассмотрению того, как зарождались в России антикрепостнические освободительные идеи, – с целью выяснить место и роль первого этапа их формирования в общем процессе истории «передовой» общественно-политической мысли и в возникновении революционной идеологии, революционного движения в стране. Белявский не прибегал к размышлениям о смысловом наполнении крестьянского вопроса. Однако из поставленной им задачи – «рассмотреть, как проходило обсуждение вопроса о правах дворян, крепостном праве и положении крестьян на первом этапе формирования антикрепостнической идеологии в России» – понятно, что в этот концепт включалась проблема дворянства, крестьянства и крепостного права, в основном в идейном измерении416. Причем интерес к крестьянству не ограничивался только помещичьими подданными.
Довольно развернутой оказалась и дворянская проблема. Главный предмет внимания историка – формирование антикрепостнической мысли – рассматривался на фоне несколько более широкой панорамы идейной ситуации 60–70‐х годов XVIII века. Важны также и объяснения Белявского относительно трактовки понятия «антикрепостнический», используя которое автор не сводил его содержание только к призывам ликвидации крепостного права. Трудности филигранного распределения идейных позиций преодолевались путем проведения «разграничительной линии» по принципу: они первыми выступили в защиту трудового народа417. Белявский также акцентировал близость взглядов «охранителей» – Н. И. Панина, Д. А. Голицына, И. П. Елагина, Н. М. Карамзина и «антикрепостников» – Н. И. Новикова, Г. Коробьина, А. Я. Поленова, Я. П. Козельского, призывая вернуться к теории «единого потока», к тому, что «все они (названные герои. – Т. Л.) оказываются „либеральными дворянами“, идущими за Екатериной II и ее „Наказом“»418. Итак, в истории общественной мысли, хотя и без деклараций, крестьянский вопрос снова оказался тесно связан с дворянским.
В докторской диссертации А. Г. Болебруха419 крестьянский вопрос также является скорее не целью, а средством – в частности, для изучения идеологии Просвещения в России. Хотя ученый не останавливался специально на трактовке крестьянского или аграрно-крестьянского вопроса, однако очевидно, что здесь, как и в работах других историков420, речь шла о проблемах крепостного права и его ликвидации. В сложный по внутренней структуре историографический очерк были включены исследования по истории крестьянства, начиная с И. Д. Беляева, по истории крепостного права, крестьянского и общественного движений, общественной мысли, Просвещения, по персоналистике и, главное, труды, где говорилось об обсуждении дальнейшей судьбы крепостничества.
Важно отметить, что, хотя предметом исследовательского внимания была преимущественно «передовая общественно-политическая мысль», цель работы заключалась в изучении процесса дифференциации течений в русской общественной мысли рубежа XVIII–XIX веков421. В поле зрения автора оказались и «просветители», и «буржуазные реформаторы», и «консерваторы», т. е. представители тех основных идейных направлений, которые тогда выделялись в советской историографии. Причем «консерваторам» и «дворянской классовой доктрине», которые, по утверждению ученого, до этого почти не исследовались, было отведено довольно много места422. Таким образом, фактически прозвучала проблема «дворянство и крестьянский вопрос», но на российских материалах, без выделения региональной, в том числе украинской, специфики. Украинские сюжеты вообще не были центральными для автора. Показательно, что в довольно пространной историографической части диссертации не упоминаются труды украинских специалистов – скорее, по причине отсутствия тех, которые касались бы поднимаемых Болебрухом проблем. А в своих оценках персоналий, в частности В. Н. Каразина, автор диссертации солидаризировался не с украинскими (А. Г. Слюсарский, Л. А. Коваленко, А. М. Чабан), а с российскими советскими учеными.
Итак, финиш украинской советской историографии в изучении крестьянского вопроса, шире – аграрной истории, истории общественной мысли мало чем отличался от стартовых позиций. Несмотря на довольно значительные достижения историков в общесоюзном масштабе и, разумеется, неубывающую актуальность проблемы, исследование ее, во всяком случае в восприятии украинских историографов, так и не сложилось в отдельное направление, в отличие от, скажем, критики «буржуазных и буржуазно-националистических фальсификаторов истории Украины»423, развернувшейся «как никогда ранее, широким фронтом» именно в конце 1980‐х годов. Это объясняется и отсутствием исследований теоретико-методологического характера424. Тем не менее, несмотря на «растворение» крестьянского вопроса, в это время были намечены основные историографические этапы в изучении отдельных составляющих проблемы. Историками был проанализирован или хотя бы отмечен, учтен основной массив исследований начиная со второй половины XIX века. Особенно это касается историографии крестьянства, реформы 1861 года, истории классовой борьбы, общественно-политической мысли и общественного движения, которые и стали доминантными.
303
Афанасьев Ю. Н. Феномен советской историографии // Советская историография. С. 19; Шмидт С. О. К изучению истории советской исторической науки 1920–1930‐х годов // Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 130.
304
Афанасьев Ю. Н. Феномен советской историографии. С. 21; Таран Л. В. Новые тенденции в мировой и украинской историографии // ДВ. М., 2004. Вып. 13. С. 211–212; Бессмертный Ю. Август 1991 года глазами московского историка. Судьбы медиевистики в советскую эпоху // Homo Historicus. Кн. 1. С. 43; Каждан А. П. Трудный путь в Византию. С. 41.
305
Рубинштейн Н. Л. Русская историография. С. 488.
306
Таран Л. В. Новые тенденции в мировой и украинской историографии. С. 213–214.
307
Худолеев А. Н. Дискуссия о «Народной воле» на рубеже 1920–1930‐х годов в отечественной историографии // ДВ. Вып. 22. С. 231, 237, 238.
308
Иллерицкая Н. В. Становление советской историографической традиции: наука, не обретшая лица // Советская историография. С. 171.
309
Глисон Э. Великие реформы в послевоенной историографии // Великие реформы в России. С. 10.
310
Сахаров А. Н. Дискуссии в советской историографии: убитая душа науки // Советская историография. С. 130.
311
Иллерицкая Н. В. Становление советской историографической традиции. С. 172.
312
Лось Ф. Є., Сарбей В. Г. Основні етапи розвитку радянської історичної науки на Україні // УIЖ. 1968. № 1. С. 17.
313
Багалій Д. I. Нарис української історіографії за доби феодалізму й доби капіталістичної // Багалій Д. I. Вибрані праці. Т. 2. С. 335–572.
314
Він же. Iсторіографічний вступ. С. 253.
315
Він же. Нарис української історіографії за доби феодалізму й доби капіталістичної. С. 573.
316
Там же. С. 450–451.
317
Грушевський М. Кілька слів про його наукову спадщину та її дослідження: В двадцять п’яті роковини смерті Ол. М. Лазаревського // Україна. 1927. Кн. 4 (23). С. 3–17.
318
Багалій Д. I. Нарис української історіографії за доби феодалізму й доби капіталістичної. С. 455.
319
Багалій Д. I. Нарис української історіографії. С. 467.
320
Він же. Iсторіографічний вступ. С. 253.
321
Він же. Нарис української історіографії за доби феодалізму й доби капіталістичної. С. 467.
322
Там же. С. 468.
323
Там же. С. 452–453.
324
Там же. С. 455, 471 и др.
325
Там же. С. 475, 479–480.
326
Там же. С. 468.
327
Ястребицкая А. Л. Историография и история культуры // Одиссей. 1992. С. 70; Гуревич А. Я. «Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь историка // Гуревич А. Я. История – нескончаемый спор. С. 467; Бессмертный Ю. Август 1991 года глазами московского историка. С. 35; «Начать с начала…» Интервью Ю. Л. Бессмертного Н. Е. Копосову (20 сентября 1991 года) // Homo Historicus. Кн. 2. С. 351–352; Каждан А. Трудный путь в Византию. С. 37.
328
Гуревич А. Я. Историческая наука и научное мифотворчество (Критические заметки) // Гуревич А. Я. История – нескончаемый спор. С. 525–526; Он же. Позиция вненаходимости. С. 126.
329
Шмидт С. О. Ключевский и культура России // Шмидт С. О. Путь историка. С. 305.
330
Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988. С. 18.
331
Кагарлицкий Б. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2004. С. 11.
332
Корзун В. П., Колеватов Д. М. «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна в социокультурном контексте эпохи // ДВ. М., 2007. Вып. 20. С. 24–62.
333
Рубинштейн Н. Л. Русская историография.
334
Муравьев В. А. «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна // Археографический ежегодник за 1998 год. М., 1999. С. 228, 230; Медушевская О. М. Источниковедческая проблематика «Русской историографии» Н. Л. Рубинштейна // Там же. С. 233; Цамутали А. Н. Рубинштейн Николай Леонидович // Историки России. С. 700.
335
Рубинштейн Н. Л. Русская историография. С. 405, 408, 509.
336
Сарбей В. Г. Iсторіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади. С. 124; «Iсторіографічні дослідження в Українській РСР» у контексті культурної та пізнавальної ситуації кінця 1960‐х – початку 1970‐х років // Iсторіографічні дослідження в Україні. Київ, 2010. Вип. 20. С. 7.
337
Лось Ф. Є., Сарбей В. Г. Основні етапи розвитку радянської історичної науки на Україні. С. 18.
338
Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. Київ, 2004. С. 319–320; Величенко С. Суперечливі схеми національної історії: російські та українські інтерпретації власної минувшини // Схід–Захід: Iсторико-культурологічний збірник. Харків, 2002. Вип. 5. С. 34.
339
Поликарпов В. В. «Новое направление» 50–70‐х гг.: последняя дискуссия советских историков // Советская историография. С. 352; Корзун В. П., Колеватов Д. М. Образ исторической науки в первое послевоенное десятилетие: трансформация историографических координат // ДВ. М., 2010. Вып. 33. С. 74.
340
Акульшин П. В. Болотов Андрей Тимофеевич. С. 57.
341
Минаева Н. В., Эймонтова Р. Г. Слово о Сергее Сергеевиче Дмитриеве // Историографический сборник: Межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 1998. Вып. 17. С. 5; Чудакова М. В защиту двойных стандартов // НЛО. 2005. № 74. С. 207–208.
342
Гуревич А. Я. «Путь прямой, как Невский проспект». С. 462–463; Копосов Н., Бессмертная О. Юрий Львович Бессмертный и «новая историческая наука» в России // Homo Historicus. Кн. 1. С. 124–125.
343
Гуржій I. О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України. С. 13–14.
344
Там же. С. 15–18.
345
Гуржий И. А. К вопросу о характере помещичьего хозяйства на Левобережной Украине во второй половине XVIII в. // Исторические записки. 1950. № 34. С. 333–338.
346
Гуржій I. О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України. С. 19.
347
Iсаєвич Я. Українська історична наука. С. 9.
348
Сарбей В. Г. Iсторіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади. С. 125.
349
Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. Острог, 2009. С. 258.
350
Ясь А. «История – точная наука…» Интеллектуальные поиски Елены Компан // День. 2010. 2–3 апреля. № 58–59. С. 11; Рубльов О. С. «Український історичний журнал»: історія офіційна й залаштункова (1957–1988 рр.) // УIЖ. 2007. № 6. С. 18–55.
351
За глубокое научное изучение истории украинского народа // ВИ. 1955. № 5. С. 3–10.
352
Там же. С. 6.
353
Сарбей В. Г. Iсторіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади. С. 125.
354
Полухін Л. К. Видатний історик України О. М. Лазаревський. Київ, 1964.
355
О некоторых вопросах истории русской общественной мысли конца XVIII – начала XIX в. // ВИ. 1955. № 9. С. 3–12.
356
Руднев М. А. Историография русского консерватизма. С. 36.
357
Поликарпов В. В. «Новое направление» 50–70‐х гг. С. 350.
358
Савельев П. И. Пути аграрного развития России в дискуссиях российских историков // Россия сельская. XIX – начало XX века: Сборник статей. М., 2004. С. 25–53; Сидорова Л. А. Инновации в отечественной историографии: опыт рубежа 50‐х – 60‐х годов // Проблемы источниковедения и историографии: Материалы II Научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко. С. 406; Дмитриев С. С. Подход должен быть конкретно-исторический // Вопросы литературы. 1969. № 12. С. 74.
359
Сергієнко Г. Я. Деякі питання розвитку досліджень з історії феодалізму // Вісник АН УРСР. 1978. № 12. С. 32.
360
Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР. Київ, 1958. С. 5.
361
Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1985. Т. 5. С. 202.
362
Там же. С. 187, 193.
363
Круус Х. Х. Об итогах симпозиума по аграрной истории Восточной Европы в Таллине в 1958 г. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1959 г. М., 1961. С. 15; Шапиро А. Л. Об опасности модернизации экономической истории русского крестьянства XVII – первой половины XVIII в. // Там же. С. 52–68; Яцунский В. К. Генезис капитализма в сельском хозяйстве России // Там же. С. 30–51.
364
Федоров В. А. Дружинин Николай Михайлович // Историки России. С. 606.
365
Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. С. 193–201; Яцунский В. К. Основные этапы генезиса капитализма в России // Яцунский В. К. Социально-экономическая история России XVIII–XIX вв.: Избранные труды. М., 1973. С. 71–115.
366
Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. С. 187, 201.
367
Сладкевич Н. Г. Борьба общественных течений в русской публицистике конца 50‐х – начала 60‐х годов XIX века. Л., 1979. С. 4.
368
Нечкина М. В. Революционная ситуация в России в исходе 50‐х – начале 60‐х годов XIX в. С. 347, 351; Она же. Революционная ситуация в России в середине XIX в. // Нечкина М. В. Встреча двух поколений. С. 505, 506.
369
Мухина Н. И. Изучение советскими историками революционной ситуации 1859–1861 гг. (Опыт библиографической статистики) // Революционная ситуация в России 1859–1861 гг. М., 1960. С. 522–527.
370
Там же. С. 527.
371
Нечкина М. В. Реформа 1861 г. как побочный продукт революционной борьбы. С. 393–404.
372
Дружинин Н. М. Открытое письмо итальянскому историку Франко Вентури // История СССР. 1963. № 4. С. 183.
373
Сарбей В. Г. Розробка в українській радянській історіографії ленінської концепції революційної ситуації кінця 50‐х – початку 60‐х років XIX ст. // Iсторіографічні дослідження в Українській РСР. Київ, 1970. Вип. 3. С. 140–154.
374
Там же. С. 146.
375
Там же. С. 153.
376
Там же. С. 142.
377
Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955. Т. 1; 1960. Т. 2; 1963. Т. 3; 1969. Т. 4; 1985. Т. 5.
378
Корзун В. П., Колеватов Д. М. Образ исторической науки в первое послевоенное десятилетие. С. 63.
379
Агирре Рохас К. А. Господствующие культуры и культуры подчиненные: диалог и конфликт // ДВ. Вып. 13. С. 44; Плампер Я. Эмоции в русской истории // Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. М., 2010. С. 26; Дмитриев А. Контекст и метод. С. 8.
380
Копосов Н. Е. Советская историография, марксизм и тоталитаризм (К анализу ментальных основ историографии) // Одиссей. 1992. С. 61–62.
381
«Начать с начала…» Интервью Ю. Л. Бессмертного Н. Е. Копосову. С. 357; Гуревич А. Я. «Путь прямой, как Невский проспект». С. 466.
382
Баткин Л. М. О том, как А. Я. Гуревич возделывал свой аллод. С. 16.
383
Троицкий С. М. Рецензия на книгу американского историка Р. Джонса «Освобождение русского дворянства. 1762–1785». С. 135–139; Он же. Русское дворянство XVIII века в изображении американского историка // Троицкий С. М. Россия в XVIII веке. С. 102–114.
384
Он же. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. М., 1974; Он же. Дворянские проекты создания «третьего чина» // Там же. С. 192–204; Он же. Комиссия о вольности дворянства 1763 г. (К вопросу о борьбе дворянства с абсолютизмом за свои сословные права) // Там же. С. 140–192.
385
Рубльов О. С. «Український історичний журнал»: історія офіційна й залаштункова. С. 28; Лисяк-Рудницький I. Довкола міжнародного історичного конгресу у Відні // Лисяк-Рудницький I. Iсторичні есе. Т. 2. С. 428.
386
Грицак Я. Українська історіографія. 1991–2001: Десятиліття змін // УМ. 2005. № 9. С. 58; Кравченко В. Україна, імперія, Росія… С. 120.
387
Мельниченко В. Ю. Деякі питання розвитку історичної науки в Українській РСР у світлі рішень XXVI з’їзду КПРС // УIЖ. 1981. № 5. С. 14–15; Голобуцький В. О. Актуальні питання історії України доби феодалізму і завдання радянських істориків // Там же. 1973. № 9. С. 39; Гапусенко I. М. Радянські історіографічні дослідження з історії України періоду феодалізму // Там же. 1968. № 1. С. 144; Боровой С. Я., Гонтар О. В., Першина З. В. Iсторичні дослідження: Вітчизняна історія: Республіканський міжвідомчий збірник (1975–1982) // Там же. 1983. № 10. С. 46; Сергієнко Г. Я. Деякі питання розвитку досліджень з історії феодалізму. С. 34, 37; Брайчевський М. Перспективи дослідження українських старожитностей ХIV–XVIII ст. // Середні віки на Україні. Київ, 1971. Вип. 1. С. 20–31.
388
Санцевич А. В. Українська радянська історична наука в 1967–1969 рр. // Iсторіографічні дослідження в Українській РСР. Київ, 1971. Вип. 4. С. 4.
389
Романовский В. А. Основные проблемы истории феодализма на Левобережной Украине в XVII–XVIII вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1961 г. Рига, 1963. С. 184–194.
390
Историография истории СССР (эпоха социализма) / Под ред. И. И. Минца. М., 1982. С. 155, 211, 246; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. С. 251.
391
Корзун В. П., Колеватов Д. М. Образ исторической науки в первое послевоенное десятилетие. С. 64.
392
Ковальченко И. Д. Изучение истории России периода капитализма (XIX – начало XX в.) // Развитие советской исторической науки. 1970–1974. М., 1975. С. 37–55; Курмачева М. Д., Назаров В. Д. Исследования по истории СССР периода феодализма // Там же. С. 9–36.
393
Пашуто В. Т., Преображенский А. А. Исследования по социально-экономической и внутриполитической истории СССР периода феодализма // Изучение отечественной истории в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. М., 1982. С. 356–380; Ковальченко И. Д. Изучение социально-экономического развития России второй половины XIX в. // Там же. С. 380–393; Зимин А. А., Клибанов А. И., Щапов Я. Н., Щетинина Г. И. Русская культура и общественная мысль в советской историографии // Там же. С. 490–537.
394
Агаджанов С. Г., Исмаил-Заде Д. И., Мухамедьяров Ш. Ф., Федосова Э. П. Изучение основных проблем истории народов СССР // Изучение отечественной истории в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. С. 537–564.
395
Мухина Н. И. Изучение советскими историками революционной ситуации 1859–1861 гг. С. 525.
396
Тематическая роспись содержания сборников «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.» (Т. I–Х. М., 1960–1986) // Революционная ситуация в России в середине XIX века: деятели и историки. М., 1986. С. 222–227.
397
Шевелев А. Г. Украина // Развитие советской исторической науки. С. 360–369.
398
Гуржій О. I., Донік О. М. «Український історичний журнал»: півстоліття в науці // УIЖ. 2007. № 6. С. 11.
399
Там же. С. 12–13. Интересно также обратить внимание на подсчеты авторов: с 1957 по 1972 год в УIЖ было опубликовано около 600 статей по истории Украины досоветского периода, а за 1972–1985 годы – почти на 200 меньше. Причем из них соответственно 290 и 154 касались «феодального периода».
400
Историография истории Украинской ССР. Київ, 1987. С. 147, 153.
401
Там же. С. 155, 156.
402
Сарбей В. Г. Iсторіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади. С. 132.
403
Зайончковский П. А. Советская историография реформы 1861 г. С. 85–104; Захарова Л. Г. Отечественная историография о подготовке крестьянской реформы. С. 54–76; Литвак Б. Г. Советская историография реформы 19 февраля 1861 г. // История СССР. 1960. № 6. С. 95–120.
404
Мороховец Е. А. Крестьянская реформа 1861 года // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. М., 1941. Вып. Х. С. 3.
405
Флоровский А. В. Крестьянская реформа и высшая администрация Новороссийского края. Одесса, 1921; Он же. Очерки о крестьянской реформе на Украине. Одесса, 1921; Он же. Освобождение крестьян по проектам Губернских комитетов Новороссийского края. Одесса, 1921.
406
См.: Сладкевич Н. Г. Освещение общественного движения России 40–60‐х годов в советской исторической литературе // Советская историография классовой борьбы и революционного движения в России. Л., 1967. С. 107–132; Федоров В. А. Историография крестьянского движения в России периода разложения крепостничества // ВИ. 1966. № 2. С. 148–156; Он же. Некоторые проблемы крестьянского движения в России периода разложения крепостничества // Проблемы истории общественной мысли и историографии: К 75-летию академика М. В. Нечкиной. М., 1976. С. 95–106.
407
Ковальченко И. Д. Изучение социально-экономического развития России второй половины XIX в. С. 391.
408
Зайончковский П. А. Рец. на: «История ССР. Аннотированный перечень русских библиографий, изданных до 1965 года». С. 166.
409
Сладкевич Н. Г. Освещение общественного движения России 40–60‐х годов. С. 122, 131.
410
Литвак Б. Г. Советская историография реформы 19 февраля 1861 г. С. 120.
411
Тематическая роспись содержания сборников «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.». С. 222–227.
412
От редакции // Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. 1. С. 4.
413
Бак И. С. А. Я. Поленов (Философские, социально-политические и экономические взгляды) // Исторические записки. М., 1949. С. 182–202.
414
Минаева Н. В. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX века. Саратов, 1982; Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989; Он же. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990; Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России; Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России и СССР. М., 1966; Хромов П. А. Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской революции. М., 1967; Яковкина Н. И. О реорганизации помещичьего хозяйства в начале XIX в. // Вопросы истории России XIX – начала XX века: Межвузовский сборник. Л., 1983. С. 45–56.
415
Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. С. 327.
416
Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева (формирование антикрепостнической мысли). М., 1965. С. 8.
417
Там же. С. 354.
418
Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России. С. 352.
419
Болебрух А. Г. Крестьянский вопрос в передовой общественной мысли России.
420
Дружинин Н. М. Крестьянский вопрос в ранних записках М. М. Сперанского. С. 254–263; Чернуха В. Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60–70‐е годы XIX в.). Л., 1972.
421
Болебрух А. Г. Крестьянский вопрос в передовой общественной мысли России. С. 13.
422
Там же. С. 44, 129.
423
Сарбей В. Г. Iсторіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади. С. 132.
424
Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999. С. 192–193; Грицак Я. Українська історіографія. С. 43–68.