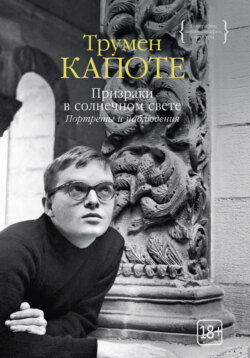Читать книгу Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения - Трумен Капоте, Трумен Капоте - Страница 3
Новый Орлеан
(1946)
ОглавлениеВо дворе был ангел из черного камня; ангельская его голова возвышалась над гигантскими листьями таро; застывшие стеклянные глаза ангела, выцветшие, как голубые глаза моряка, смотрели вверх. За ангелом ты наблюдал с кружевного зеленого балкона – моего балкона, потому что я жил за ним, в трех старых белых комнатах с затейливой лепниной на потолках, широкими раздвижными дверьми и стеклянными балконными. Теплыми вечерами за этими открытыми дверьми слышна приятная мелодичная беседа, и ветерок летает, шурша, по комнате, словно пожилые дамы обмахиваются веерами. В такие теплые вечера город затихает. Только голоса: семейный разговор вьется на затянутой плющом террасе, босая женщина напевает без слов, качаясь в кресле на тротуаре, баюкает ребенка и без стеснения кормит грудью; недовольный иностранный голос раздраженной дамы, у себя на балконе ощипывающей цыпленка; перья отплывают от ее руки и лениво по воздуху опускаются на пол.
Однажды утром, кажется, в декабре, холодным воскресеньем, под печальным серым солнцем, я шел через Французский квартал к старому рынку, где в это время года продают изысканные зимние фрукты – сладкие мандарины, двадцать центов дюжина – и зимние цветы, рождественские пуансеттии и белоснежные камелии. У новоорлеанских улиц длинная пустынная перспектива, в тихие часы атмосфера – как у де Кирико; безобидные обыкновенные предметы (лицо за жалюзи в косых полосках света, идущие вдалеке монашки, рука, наклонно высунувшаяся из окна, одинокий черный мальчик на корточках в переулке выдувает мыльные пузыри и грустно наблюдает, как они лопаются, поднявшись) дышат угрозой. И вот в то утро я застыл на месте посреди квартала, заметив боковым зрением зеленый туннель, проход в заросшем дворе. Под зеленым лоскутным светом в конце туннеля стояла нелепого вида белая собака, и что-то погнало меня к ней. Там был фонтанчик; изо рта бронзовой обезьяны тихо струилась вода и печально позванивала, падая на гальку. Он висел на иве, мужчина с бандитским лицом и платиновыми кудрявыми волосами; висел вяло, как ветви самой ивы. В безмолвном задохшемся саду был ужас. Закрытые окна смотрели слепо, следы улиток блестели на гигантских листьях, ничто не шевелилось, кроме его тени. Он покачивался, однако ветра не было. Его перстень с поддельным бриллиантом мигал на солнце, а на руке у него была татуировка, имя Френси. Собака опустила голову и лакала из фонтана; я убежал. Френси – из-за нее он покончил с собой? Новый Орлеан полон тайн.
Стеклянные глаза моего каменного ангела были как солнечные часы: по тому, сколько света они вобрали, ты определишь время: белые в полдень, они постепенно тускнели; в сумерках темные, ночью черные на ночном лице.
Рваные красные губы золотоволосых девиц недобро кривятся на выгоревших, покосившихся фасадах: пейте «Доктор Натт», «Доктор Пеппер», «Нихай», «Грейпид», «Кока-колу». Как всякий южный город, Новый Орлеан весь в рекламах прохладительных напитков; улицы безлюдных кварталов усыпаны крышками от кока-колы, и после дождя они блестят на земле, как потерянные монеты. Плакаты отрываются, мятые, лежат на мостовой, пока грозовой ветер не понесет их по улицам, словно перекати-поле, – а есть такие, кому они кажутся красивыми; есть такие, кто обклеивает у себя стены красотками Доктора Натта, Доктора Пеппера и Кока-колы; красотки улыбаются над кроватями – ночные ангелы-хранители и утренние святые. Повсюду объявления – написанные мелом, печатные, нарисованные: Мадам Ортега – гадание, приворотные зелья, магическая литература, посетите меня; Если вам Нечего Делать – Бездельничайте здесь; Ты готов к встрече с Создателем? Осторожно, Злая Собака; Пожалейте бедных сироток; Я глухонемая вдова, и у меня 2 рта голодных; Внимание, сегодня в нашей церкви поют «Синие крылья» (подпись) Пастор.
В районе Айриш-чаннел когда-то было объявление на двери: «Зайдите и посмотрите, где стоял Иисус».
«И что?» – сказала женщина, открыв на мой звонок. «Хочу посмотреть, где стоял Иисус», – сказал я, и она ответила непонимающим взглядом. Морщины на ее мучнисто-белом лице были будто прорезаны бритвой, у нее не было ни бровей, ни ресниц, и одета она была в ситцевое кимоно. «Ты еще мал, миленький, – сказала она с отрывистым смешком, всколыхнувшим грудь, – рано тебе смотреть, где стоял Иисус».
В моем районе было кафе, совсем неинтересное, самое пустое кафе в Новом Орлеане, прямо похоронное бюро. Хозяйку, миссис Моррис Отто Кунзе, это как будто не огорчало, весь день она сидела за баром, обмахиваясь пальмовым веером, и если когда двигалась, то чтобы прихлопнуть муху. К треснутому зеркалу за баром были приклеены семь маленьких записок, все одинаковые: «Не волнуйтесь из-за жизни… живым вы из нее не уйдете».
3 июля. На прошлой неделе записка от мисс Ю. «Принимаю», и сегодня днем нанес визит. Она очаровательна на свой архаический лад и забавна, хотя забавлять не старается. Когда мы познакомились, я подумал: Эдна Мэй Оливер[1], – и сходство определенно есть. Мисс Ю. говорит обдуманно, но речь ее скачет с одного на другое, а глаза цвета хереса беспрерывно обегают помещение. У мисс Ю. военная выправка, и ходит она с мужской ротанговой тростью – одна нога у нее короче другой, из-за чего у нее живенькая пингвинья походка. «В вашем возрасте это было для меня несчастьем; да, сегодня могу признаться – папе приходилось сопровождать меня на все балы, и там мы сидели в красивых золотых креслицах. Сидели. Ни один джентльмен не пригласил мисс Ю. на танец; хотя нет, как-то зимой приехал молодой человек из Балтимора и… Боже! Бедный мистер Джонс, он упал со стремянки, представляете? – сломал себе шею и умер мгновенно».
Интерес мой к мисс Ю. скорее клинический; признáюсь не без смущения, я не такой ей друг, каким представляюсь ей, близким с ней быть трудно, уж больно сказочный она персонаж: реальный человек – и невероятный. Она – как ее пианино в гостиной, элегантное, но слегка расстроенное. Дом ее, старый даже по здешним понятиям, охраняет поломанная железная изгородь; мисс Ю. живет в бедном районе, завешенном объявлениями о сдаче комнат, кругом бензозаправки и кафе с музыкальными автоматами. Однако в те дни, когда здесь поселились ее предки, – в давнее, понятно, время – не было в Новом Орлеане более красивого места. Дом, осененный наклонными деревьями, снаружи посерел, но внутри фантастическое ее наследство: от стука ее трости, когда она сходит по легкокрылой лестнице, дрожит хрусталь; ее лицо, сердечко из мятого шелка, дымчато отражается в зеркалах до потолка; она опускается (заметим, с какой бережностью к своим костям) в прадедовское кресло, неприязненно суровое вместилище со львиными головами на подлокотниках. Здесь, в прохладном сумраке дома, она прекрасна – и в безопасности. За стенами, за оградой, с мебелью своего детства. «Некоторые рождаются для старости. Я, например, была кошмарным ребенком, совсем никаких достоинств. А старой быть мне нравится. Я чувствую себя как-то более… – она помолчала, обвела рукой сумрачную гостиную, – более соответствующей».
Мисс Ю. не верит в мир за пределами Нового Орлеана: ее обособленность иной раз может выразиться в ошеломляющем замечании. Сегодня, например, когда я упомянул о своей недавней поездке в Нью-Йорк, она сказала: «Да? И как там жизнь, за городом?»
1. Почему, интересно, все таксисты в Н. О. говорят так, как будто их привезли из Бруклина?
2. О здешней еде тебе наверняка прожужжат все уши, и это, вероятно, правда, что такие рестораны, как «Арно» и «Колб», – лучшие в Америке. В этих ресторанах приятная, ленивая атмосфера: медленно крутятся вентиляторы, столы огромны, народу немного, небрежные, но умелые официанты ведут себя так, как будто они сыновья администратора. Один мой приятель, сравнивая Н. О. и Нью-Йорк, заметил как-то, что аналогичное блюдо на севере, помимо того, что оно значительно там дороже, повар дополнит какими-то своими выдумками, разными затеями и фальшивыми аксессуарами. Как и у большинства хороших вещей, в основе новоорлеанской кухни – простота.
3. Мне довольно противна эта назойливая фраза: «очарование старины». Здесь ты найдешь его в архитектуре, в антикварных лавках (где ему и место), в смешении диалектов, звучащих на Французском рынке. Н. О. не более очарователен, чем любой южный город, – даже менее, потому что он самый большой. Главная часть города выросла из духовной низины – эти улицы и районы лежат за пределами туристских маршрутов.
(Из письма к Р. Р.) В квартире подо мной новые жильцы, третьи за год. Этот Французский квартал – кочевье, здравствуйте и до свидания. Когда я сюда приехал, там жил настоящий, чистой пробы негодяй. Неразборчивый, нечистый, бессовестный – распутный сатир. Мистер Бадди, человек-оркестр. Скорее всего, ты видел такого, не здесь, конечно, в каком-нибудь другом городе, потому что он кочует – вместе со своим старым банджо, барабаном, губной гармоникой. Я натыкался на него на разных углах, в окружении бездельников. Узнав, что он мой сосед, я был несколько потрясен. По правде говоря, он был неплохой музыкант – даже превосходный, когда под конец дня пел под гитару для собственного удовольствия, пел пропитым печальным голосом душевные баллады – как ужасно тем, кто полюбил.
«Эй, парень! Ты, наверху…» Я всегда был «ты», он не знал, как меня зовут, и не интересовался узнать. «Спустись, хлопнем по парочке». Его балкон, меньше моего, был увит душистой глицинией, мебели там толком не было, мы сидели на полу в зеленой тени, пили джин, больше похожий на спиртовую растирку, он перебирал гитарные струны, и жалобное их нытье оттеняло его низкий гулкий голос. «Всюду побывал, и там и сям, поездил; шестьдесят пять лет, а любая со мной захороводится, и никто ей больше не нужен, вот так-то вот; сколько жен было, и детей сколько, а что с ними стало, один черт знает… а мне плевать… кроме, может, Ронды Кей. Вот была женщина, скажу, сладкая как мед, а уж меня любила!.. Прямо соком исходила вся, а сама за баптистским священником замужем, и четверо детей – с моим, значит, пятеро. Недосуг было узнать, девочка или мальчик, – мальчик, думаю. Я всегда им заделывал мальчиков… Ну, дело давнее, в Мемфисе это было, в Теннесси. Да всюду я побывал: и в тюрьме, и в богатых красивых домах, в рокфеллеровских домах, всюду поездил, везде побывал».
Так он мог болтать до восхода луны, голос у него делался квакающий, слова цеплялись одно за другое, звучали монотонным напевом.
На его пятнистом морщинистом лице было обманчивое выражение доброты, в нем мерцало порой что-то детское, но глаза косили по-азиатски, а отполированные ногти были длинные и острые, как ножи. «Чесаться сподручней и в драке подспорье».
Носил он что-то вроде костюма: черные брюки, огненные носки, теннисные туфли с прорезанными мысками для вентиляции, визитка, серый бархатный жилет, по его словам перешедший к нему от предка, Бенджамина Франклина, и берет со значками «Голосуйте за Рузвельта». Что говорить – дам у него было множество, каждую неделю другая, и редко когда очередная подруга не стряпала ему обед, а если я заходил к нему, он галантно представлял ее: «Познакомься с миссис Бадди».
Однажды ночью я проснулся с ощущением, что я не один, и в самом деле – в комнате кто-то был; я увидел его в зеркале, при свете луны. Это был он, мистер Бадди, он воровато выдвигал ящики бюро; вдруг выпала моя коробка с центами, и они шумно раскатились по всему полу. Притворяться уже не имело смысла, я включил лампу; мистер Бадди без особого смущения посмотрел мне в глаза и ухмыльнулся. «Послушай, – сказал он, и таким трезвым я его еще не видел. – Послушай, мне надо поскорее выметаться отсюда».
Я не знал, что ответить, а он, покраснев слегка, посмотрел на пол. «Ну, будь другом, у тебя есть деньги?»
Я мог только показать на рассыпавшуюся мелочь; он, ни слова не говоря, опустился на колени, собрал ее и, гордо выпрямившись, вышел вон.
Наутро его уже не было. Приходили три женщины, спрашивали его, но где он, я не знаю. Может быть, в Мобиле. Если увидишь его там, Р., не черкнешь мне открытку?
«Хочу большую толстую мамульку, ага!» Пальцы Дробовика, длинные, как бананы, толстые, как огурцы, бьют по клавишам, нога топает по полу, потрясая кафе. Самое роскошное шоу в городе. Петь ни черта не может, но на пианино шпарит… Слушай: «Летом прохладная, зимой – как печь, можно ли с такой не лечь?» Разевает толстогубый рот, как крокодил, красный озорной язык пробует песню на вкус, совокупляется с ней; сладко, Дробовик, сладко-сладко-сладко. Смотри, как он смеется: лицо одержимого, искореженное пулевым шрамом, все блестит от пота. Есть ли такой человеческий порок, который ему неведом? Но обидно… Белые вряд ли когда видят Дробовика, это – негритянское кафе. Пыльные рождественские украшения расцвечивают шелушащиеся серые стены, оранжевые, зеленые, фиолетовые полоски гофрированной бумаги вокруг голых лампочек колышет ветер усталого вентилятора; хозяин, красивый квартерон с молочно-голубыми глазами под тяжелыми веками, наклоняется над стойкой и орет: «Тут что тебе – благотворительное заведение? Гони четвертак, нигер, живо!»
Субботний вечер. Зал полон табачного дыма и запаха субботних духов. Вокруг сальных деревянных столиков стулья в два ряда; все всех знают, и мир сейчас сократился до этого зала, темного, веселого, ужасного зала; сердце у нас бьется в такт его топанью, всё, что есть радостного в нашей жизни, сейчас сосредоточилось в аспидском блеске его глаз. «Хочу большую толстую мамульку, ага-ага!» Он качается вперед-назад на табуретке, и, когда поднимает голову, чтобы посмотреть на нас, ночь оглашается могучим криком: «Хочу большую толстую мамульку, чтоб у нее дрожали телеса!»
1
Эдна Мэй Оливер (1885–1942) – американская характерная актриса. (Здесь и далее – примеч. перев.)