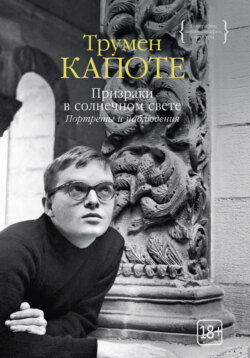Читать книгу Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения - Трумен Капоте, Трумен Капоте - Страница 8
В Европу
(1948)
ОглавлениеЕсли стоять тихо, можно было расслышать арфу. Мы взобрались на стену, и там, среди пламенеющих, облитых дождем цветов замкового сада, сидели четыре таинственные фигуры – молодой человек, перебиравший струны ручной арфы, и трое заржавленных стариков в латаных черных костюмах; и до чего застывшими выглядели они на фоне зеленоватого грозового неба. Они ели фиги, итальянские фиги, такие мясистые, что у них стекал по подбородкам сок. За садом лежал мраморный берег озера Гарда; воду его будоражил ветер, и я знал, что мне всегда будет страшно в ней плавать, потому что, как искажения за красотой витражей, в пучине этих зловеще-прозрачных вод должны плавать готические твари. Один из стариков далеко отбросил кожуру фиги, и потревоженное трио лебедей зашуршало тростником.
Д. спрыгнул со стены и поманил меня, но я не мог спрыгнуть, еще не мог; потому что здесь была правда, и я хотел, чтобы эта правда продлилась еще на мгновение, я больше никогда не почувствую ее так полно, даже лист шелохнется, и она пропадет, так же как кашель навсегда погубил бы верхнюю ноту Дженни Турель[7]. А что это была за правда? Правда подтверждения: замка, лебедей, парня с арфой, всего мира детской книжки – перед тем, как приехал принц или ведьма напустила свои чары.
Правильно, что я отправился в Европу, – потому хотя бы, что снова мог смотреть вокруг с удивлением. Легче всего это в детстве; после, если вам повезет, вы найдете мост в детство и пройдете по нему. Такой стала поездка в Европу. Это был мост в детство, мост над морями, через леса, прямо в самые ранние ландшафты моего воображения. Так или этак, мне довелось побывать во многих местах, от Мексики до Мэна, а теперь, подумать только, – в такую даль, в Европу, а потом домой, к своему камину, в свою комнату, где сказания и легенды, кажется, вечно живут за пределами нашего города. Вот где жили легенды: арфа, замок, шуршание лебедей.
В тот день – довольно сумасшедшая поездка на автобусе из Венеции в Сирмионе, зачарованную крохотную деревеньку на краешке полуострова, вдающегося в озеро Гарда, самое голубое, самое печальное и безмолвное, самое красивое озеро Италии. Если бы не история с Лючией, вряд ли мы уехали бы из Венеции. Там я был совершенно счастлив, конечно, если забыть про невероятный ее шум – не обычный городской шум, а неумолчно спорящие голоса, шарканье ног, плеск весел. Однажды Оскару Уайльду кто-то посоветовал укрыться там от света. «И стать монументом для туристов?» – сказал он.
Совет, однако, был отличный, и, не в пример Оскару, многие ему следовали: во дворцах вдоль Большого канала образовалась целая колония людей, десятилетиями не показывавшихся в обществе. Самой занимательной из них была шведская графиня: слуги привозили ей фрукты в черной гондоле, увешанной серебряными колокольчиками; их звон создавал впечатление волшебное, но и жутковатое. Но Лючия так нас преследовала, что нам пришлось бежать. Мускулистая девушка, необычайно высокая для итальянки, вечно пахнущая противными приправами, она верховодила шайкой молодых гангстеров – бродячих юнцов, слетевшихся сюда на летний сезон. Они могли быть очаровательны – некоторые из них, – хотя торговали сигаретами, в которых было больше сена, чем табака, и надували при пересчете валюты. Дела с Лючией начались на площади Сан-Марко.
Она подошла и попросила сигарету, и Д., простая душа, не ведающая, что мы отказались от золотого стандарта, дал ей целую пачку «Честерфильда». Никогда еще двух людей не принимали так близко к сердцу. Поначалу это было приятно; Лючия не отпускала нас ни на шаг, оберегая и щедро одаривая плодами своей мудрости. Но часто случались неловкости: во-первых, из-за ее манеры торговаться на повышенных тонах нас всякий раз заворачивали в хороших магазинах; кроме того, она была чрезмерно ревнива, так что мы не могли нормально войти в контакт с кем бы то ни было. Однажды мы случайно встретили на площади безобидную, воспитанную молодую женщину, с которой ехали в одном вагоне из Милана. «Внимание! – хриплым своим голосом сказала Лючия. – Внимание!» И чуть ли не убедила нас, что у дамы скандальное прошлое и срамное будущее. В другой раз Д. отдал одному из ее приспешников штампованные часы – парню они очень нравились. Лючия пришла в ярость. При следующей нашей встрече эти часы висели у нее на груди, а парень, как выяснилось, спешно уехал ночью в Триест.
У Лючии было обыкновение заявляться к нам в отель когда угодно (где она сама жила, мы так и не узнали); шестнадцатилетняя – и то вряд ли, – она усаживалась, выпивала целую бутылку ликера «Стрега», выкуривала все сигареты, до каких удавалось добраться, и в изнеможении засыпала; только во сне ее лицо сколько-нибудь походило на детское. Но случился страшный день, когда администратор остановил ее в вестибюле и сказал, что она больше не может ходить к нам в номера. Это неприлично и недопустимо, сказал он. Тогда Лючия собрала десяток своих самых хулиганистых дружков и устроила такую осаду, что пришлось опустить на дверях железные жалюзи и вызвать карабинеров. После этого мы всячески старались избегать ее.
Но избегать кого-то в Венеции – все равно что играть в прятки в однокомнатной квартире: нет на свете более компактно организованного города. Венеция – нечто вроде музея с карнавальным налетом, огромный дворец как будто без дверей, все здесь соединено, одно переходит в другое. За день снова и снова встречаются те же лица, как предлоги в длинном предложении: свернул за угол, а там Лючия, и часики качаются у нее между грудями. Вот до чего она влюбилась в Д. Но в итоге набросилась на нас с пылкостью оскорбленной; возможно, мы этого заслуживали, но это было непереносимо: как туча мошкары, ее шайка преследовала нас на площади, осыпая бранью; когда мы присаживались выпить, они собирались в темноте поодаль от стола и выкрикивали оскорбительные шутки. Половины мы не понимали, зато с очевидностью понимали все остальное. Сама Лючия открыто в операциях не участвовала, держалась в стороне и управляла их деятельностью дистанционно. Так что в конце концов мы решили покинуть Венецию. Лючия об этом узнала. Ее шпионы были повсюду. В утро нашего отъезда шел дождь, когда наша гондола отвалила, появился мальчик с ошалелыми глазами и бросил нам газетный сверток. Д. развернул его. В газете лежала дохлая желтая кошка, и к ее шее были привязаны все те же дешевые часы. Чувство было такое, будто ты куда-то проваливаешься. А потом мы вдруг увидели ее, Лючию: она стояла одна на мостике над каналом и так перевесилась через перила, что казалось, непременно упадет. «Perdonami, – крикнула она, – ma t’amo» («Прости меня, но я тебя люблю»).
В Лондоне молодой художник мне сказал:
– Как это, должно быть, чудесно – первое путешествие по Европе для американца: вы не можете стать ее частью, вы избавлены от ее горестей… да, для вас здесь только красота.
Я не понял его и обиделся; но позже, после нескольких месяцев во Франции и Италии, осознал, что он был прав: я не часть Европы и никогда ею не стану. Я спокойно могу уехать, когда захочу, и для меня здесь – только сладкое, освященное царство красоты. Но это было не так чудесно, как полагал молодой художник; больно было чувствовать, что не про тебя эти трогательные мгновения, что ты всегда будешь в стороне от этих людей и этого пейзажа; но потом постепенно понял, что и не должен быть частью этого – это может быть частью меня. Внезапно открывшийся сад, вечер в опере, буйные дети схватили цветы и убегают по улице в сумерках, венок для покойника и монахини под полуденным солнцем, парижская пианола и ночные фейерверки четырнадцатого июля, поражающие в самое сердце виды гор и воды (озера, как зеленое вино в чашах вулканов, мелькание Средиземного моря у подножья скал), падающие в сумерках заброшенные башни вдали, хрустальная рака святого Зенона в Вероне, зажженная светом свечей, – всё часть меня, элементы – элементы, из которых сложится моя собственная картина.
Когда мы уехали из Сирмионе, Д. вернулся в Рим, а я – опять в Париж. Странная была поездка. Начать с того, что через дурного билетного агента я заказал место в wagon lit[8] Восточного экспресса, но по приезде в Милан обнаружил, что бронь у меня фальшивая и никакого места для меня не предусмотрено. Если бы я не насел кое на кого, сомневаюсь, что вообще попал бы на поезд – время отпусков, все забито. Все-таки мне удалось протиснуться в по-августовски душное и жаркое купе с шестью другими пассажирами. Название «Восточный экспресс» щекотало нервы ожиданием необычных событий – если верить тому, что рассказывали о нем мисс Агата Кристи или мистер Грэм Грин. Но к тому, что случилось на самом деле, я никак не был подготовлен.
В купе сидели два скучных шведских бизнесмена, один бизнесмен более экзотический, ехавший из Стамбула, учительница-американка и две снежноволосые итальянские дамы с надменным взглядом и ажурными, как рыбий хребет, лицами. Они были одеты как двойняшки – в ниспадающем черном с воздушным кружевом под шеей, заколотым аметистовой брошкой с жемчужинами. Они сидели, сжав руки в перчатках, и ничего не говорили – только когда передавали друг другу коробку с дорогими шоколадками. Кажется, весь их багаж состоял из громадной клетки; в этой клетке, частично накрытой шелковым платком, находился суетливый попугай плеснево-зеленого окраса. Время от времени попугай разражался безумным смехом; тогда дамы обменивались улыбками. Американская учительница спросила их, умеет ли попугай говорить; на что одна из дам с легким кивком ответила: да, умеет, но грамматика у него слабая. Перед итальянско-швейцарской границей таможенники и паспортисты приступили к своим докучливым занятиям. Мы думали, что они закончили с нашим купе, но вскоре они вернулись, несколько человек, и встали за стеклянной дверью, глядя на аристократических дам. По-видимому, они совещались. Все в купе замерли, кроме попугая, смеявшегося жутким смехом. Дамы сидели безучастно. К тем, что стояли за дверью, подошли люди в форме. Тогда одна из дам, трогая аметистовую брошку, обратилась к нам, сперва по-итальянски, потом по-немецки, потом по-английски: «Мы ничего плохого не сделали».
Но тут отодвинулась дверь и вошли двое чиновников. Они даже не взглянули на дам, а сразу подошли к клетке и сдернули с нее платок. Попугай закричал: «Basta, basta»[9].
Поезд резко остановился среди темных гор. От толчка клетка опрокинулась, попугай, вдруг очутившись на воле, с хохотом стал летать от стены к стене, и всполошившиеся дамы тоже полетели его ловить. Тем временем таможенники разбирали клетку; в кормушке обнаружилась сотня бумажных пакетиков с героином, сложенных как пакетики с порошком от головной боли, и в медном шаре на макушке клетки – еще такие же пакетики. Открытие как будто совсем не расстроило дам. Их волновала только потеря попугая: он вдруг вылетел в приспущенное окно, и они в отчаянии звали его: «Токио, ты замерзнешь, Токио, маленький, вернись! Вернись!»
Он смеялся где-то в темноте. В небе висела холодная северная луна, на сияющем диске промелькнула его плоская темная тень. Тогда дамы повернулись к двери; там уже толпились зрители. Надменно, невозмутимо дамы шагнули навстречу лицам, которых как будто бы не видели, и голосам, которых ни за что не пожелают услышать.
7
Дженни Турель (1900–1973) – американская певица белорусского происхождения, меццо-сопрано.
8
Спальный вагон (фр.).
9
«Хватит, хватит» (ит.).