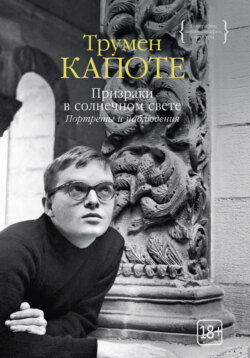Читать книгу Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения - Трумен Капоте, Трумен Капоте - Страница 6
Голливуд
(1947)
ОглавлениеКогда приближаешься к Лос-Анджелесу, во всяком случае по воздуху, чувство, вероятно, такое, как если бы ты летел над поверхностью Луны: скалятся снизу доисторические формы – каменная выветренная рябь, палеозойские рыбы плавают в озерах тени между пустынных, опаленных и застывших гор; никакой жизни – только камень, некогда бывший птицей, кости, ставшие песком, папоротники, впаянные в пламенные глыбы. Наконец, приветливая вереница облаков: мы прошли через колдовское дефиле, на горах снег, но землю раскрасили цветы, летнее солнце соседствует с зимним декабрьским морем; вниз, вниз, самолет взрезает перистый золотой невероятный воздух. Ой, я не выдержу, застонала Тельма и пустила себе в рот струйку жевательных подушечек. Тельма села в самолет в Чикаго – молодая негритянка, хорошенькая, прекрасно одетая, и эта поездка в Калифорнию была для нее чудеснейшим событием жизни. «Я знаю, все будет замечательно. Я три года работала капельдинершей в кинотеатре „Лола“ на Стейт-стрит, копила на дорогу. Моя тетя гадает на картах, она сказала: „Тельма, золотко, поезжай в Голливуд, там тебя ждет работа личной секретарши у киноартистки“. Не сказала, правда, у какой артистки. Надеюсь, это не Эстер Уильямс, я не особенно люблю плавание».
Позже она спросила, собираюсь ли я работать в кино, и, решив, что ей будет приятно, я сказал «да». Она очень ободряла меня, обещала, что, когда устроится личной секретаршей и таким образом получит доступ к сильным мира сего, она меня не забудет и окажет всяческую помощь.
В аэропорту я помог ей с багажом, и в итоге мы взяли такси на двоих. Тут выяснилось, что деваться ей некуда, она попросила таксиста просто привезти ее в «середину» Голливуда. Ехали долго, и всю дорогу она сидела на краешке сиденья, глядя в окно с невыносимой внимательностью. Но глазу представилось гораздо меньше, чем ожидалось. «Что-то тут неправильно», – сказала она наконец, словно с ней сыграли скверную шутку, потому что здесь опять, правда слегка замаскированная, была лунная поверхность, повсеместное нигде, но до чего же, если подумать, правильно, что здесь, на краю континента, мы найдем только свалку всего патентованно американского: нефтяные качалки, неторопливые, как сердцебиение демонов, панорамы автомобильных кладбищ, супермаркеты, мотели, – уй, пап, я не знал, что это «шевроле»; уй, пап, уй, мам, – рекламный шум и гам, самое большое, самое широкое, самое лучшее, бескрайнее, усыпленное до беспомощности голым солнцем, шумом моря и неземной свежестью декабрьских цветов.
Пока мы ехали, небо сделалось пепельного цвета, и когда свернули на бульвар Уилшир, Тельма, заботливо дотронувшись до своей изящной шляпки с пером, проворчала, что опасается дождя. «Да ни в жизнь, – сказал шофер, – это ветер гонит пыль из пустыни». Не успел он выговорить последнее слово, как хлынул ливень. Но Тельме некуда было податься – только на улицу, и мы оставили ее там под дождем и ветром, стаскивавшим с нее костюм. На перекрестке нас остановил светофор, она подбежала и просунула голову в окно. «Слушай, голубчик, запомни, что я говорю: проголодаешься или еще что – просто найди меня. – И с милой улыбкой: – Слышишь? Всех удач тебе».
3 декабря. Сегодня стараниями общего друга, Норы Паркер, приглашен на обед к легендарной мисс С. Ее дом окружен крепостной стеной, и в воротах мы были более или менее обысканы охранником, который затем позвонил в дом и доложил о нашем приходе. Все это было очень симпатично; приятно увидеть наконец, что кто-то живет так, как подобает жить знаменитой актрисе. В дверях нас встретила краснолицая перекормленная девочка с приторной красной лентой в волосах.
– Мама думает, я должна занять вас, пока она не спустится, – вяло сказала она и провела нас в большую и, как я теперь понимаю, нелепую комнату.
Комната выглядела так, словно какой-то богатый старый мошенник сам оборудовал для себя шикарное логово: подобострастные низкие кушетки, ворох развратных бархатных подушек, изгибистые, волнистые лампы.
– Хотите посмотреть мамины вещи? – спросила девочка.
Первым ее экспонатом была изящная горка с освещением.
– Это, – девочка показала на фарфоровое изделие, – мамина старинная ваза, она заплатила за нее сумасшедшие три тысячи долларов. А это ее золотой шейкер для коктейлей и золотые чашки. Я забыла, сколько они стоят, но жутко дорого – может, пять тысяч долларов. А видите этот старый чайник? Вы не поверите, какой он дорогой…
Это был монструозный комментарий; под конец его Нора оторопелым взглядом обвела комнату в поисках другой темы и сказала:
– Какие красивые цветы. Они из вашего сада?
– Ну что вы, – снисходительно возразила девочка. – Мама заказывает их каждый день у самой дорогой флористки в Беверли-Хиллз.
– Вот как? – слегка вздрогнув, сказала Нора. – А какой твой любимый цветок?
– Орхидеи.
– Ну, правда? Не могу поверить, что любимый твой цветок – орхидея. У такого юного существа?
Девочка на секунду задумалась.
– Собственно говоря – нет. Но мама говорит, что они самые дорогие.
В это время послышался шелест в дверях; мисс С. вприпрыжку, как девочка, по комнате – ее знаменитое лицо без косметики, заколки на неубранных волосах. На ней был очень обыкновенный байковый халат.
– Нора, дорогая, – сказала она, протягивая руки, – извини, что я так долго. Я была наверху, застилала кровати.
Вчера, взалкав, вспомнил роскошную выставку фруктов в витрине большого магазина, мимо которой не раз с восхищением проезжал. Исполинские апельсины, виноград размером с мячики для пинг-понга, розовые пирамиды яблок. Здесь какой-то фокус с расстояниями: все оказывается не так близко, как ты предполагал, нередко за пачкой сигарет проезжаешь десять миль. Мне пришлось пройти две, прежде чем показался впереди фруктовый магазин. Длинные прилавки были наклонными, чтобы ты издали мог увидеть великолепный товар – яблоки, груши. Я протянул руку к изумительному яблоку, но оно оказалось приклеенным к лотку. Продавщица усмехнулась. «Гипсовое», – сказала она, и я тоже засмеялся, должно быть, слегка натянуто, а потом устало прошел за ней вглубь магазина и купил шесть маленьких квеловатых яблок и шесть маленьких квеловатых груш.
Рождественская неделя. И давно уже вечер. Внизу под окном в долине электрическое озеро лампочек. Из тревожного непостоянства домов на склоне непостоянные глаза смотрят на них, словно они вдруг могут погаснуть, как догоревшие свечки.
Днем я поехал на автобусе из Беверли-Хиллз в центр Лос-Анджелеса. Улицы увешаны гирляндами, мы проехали мимо моторных саней, разбрасывающих за собой белые кукурузные хлопья; на перекрестках в тени искусственных деревьев потные люди в свитерах звенят колокольчиками; из репродукторов на фонарных столбах льется сироп рождественских песенок; на ветвях, как бородатый мех, висит канитель, блестя на солнце девяносто шестой пробы. Ничего более рождественского быть не может – и менее рождественского тоже. Я знал женщину, которая по камню за розовым камнем импортировала итальянскую виллу и заново собрала на скромном коннектикутском лугу. Рождество чужеродно Калифорнии, как та вилла – Коннектикуту. И что за Рождество без детей, если в них вся соль его? На прошлой неделе я встретился с человеком, который подытожил ряд наблюдений словами: «И вы, конечно, знаете, это бездетный город».
Пять дней я проверял его вывод, сперва рассеянно, теперь – с болезненной тревогой; глупость, понимаю, однако с начала этого таинственного исследования я не увидел и полудюжины детей. Но вот еще другая сторона вопроса: больше всего здесь жалуются на перенаселенность; местные, старая гвардия, говорят мне, что город пучит от «нежелательных» элементов – толпы демобилизованных солдат, рабочих, переехавших сюда во время войны, и эти духовные сезонники, молодые, без руля и без ветрил; однако, когда брожу по городу, бывает такое чувство, будто проснулся жутким утром в безмолвном, пустом городе, где за ночь не осталось ни души, как на покинутой «Марии Селесте». Ощущение воскресного безлюдья, ни одного пешехода, машины скользят сплошным лоснистым неслышным потоком, моя тень, движущаяся по белой оцепенелой улице, – как единственный живой элемент на картине де Кирико. Это не уютная тишина американских маленьких городков, хотя физическая обстановка – маленькие веранды, дворы, живые изгороди – часто такая же; разница та, что в настоящем городе ты довольно хорошо представляешь себе, какого рода люди живут за этими нумерованными дверьми, тогда как здесь все кажется преходящим, эфемерным, общей структуры населения нет, и не видно никакого замысла, эта улица, этот дом – грибы случайности; трещина в стене, которая где-то еще может выглядеть трогательно, здесь звучит ноткой, предвещающей гибель.
1. Здесь одна учительница устроила словарный тест и попросила дать антоним «молодости». Больше половины учеников написали «смерть».
2. Стильный голливудский дом не считается гигиеничным, если стены не оживлены живописью парочки современных мастеров. У одного продюсера целая небольшая галерея: он относится к картинам просто как к хорошему капиталовложению. Жена его не столь скромна: «Конечно, мы разбираемся в искусстве. Мы ведь были в Греции. Калифорния – совсем как Греция. В точности. Вы бы удивились. Поговорите с моим мужем о Пикассо, он вам все разложит по полочкам».
В тот день, когда мне демонстрировали их знаменитую коллекцию, я нес обрамщику маленькую цветную литографию Клее. «Симпатичная, – осторожно сказала жена продюсера. – Это вы сами нарисовали?»
Дожидаясь автобуса, увидел П., к которой испытываю восхищение. Она остроумна без злости и, что еще более необычно, сумела прожить тридцать лет в Голливуде, не потеряв достоинства и чувства юмора. Естественно, она небогата. Теперь живет над гаражом. Это интересно, ибо, по здешним понятиям, она неудачница, что, наряду с возрастом, непростительно. Тем не менее успех отдает ей дань, и на кофе к ней собирается вполне блестящее общество, потому что там, над гаражом, она умеет создать атмосферу безмятежности и в каждого вселить ощущение, что у него есть корни. Вдобавок она неистощимый хронист, времена в ее разговоре сдвигаются, скользят, и когда она останавливает на тебе свои васильковые глаза, рядом, чуть задев твой локоть, проходит Валентино, молодая Гарбо вырисовывается у окна, на лужайке возникает и стоит, как сумрачная статуя, Джон Гилберт, старший Фэрбенкс с шумом подъезжает к дому, а на заднем открытом сиденье у него лают два мастифа.
П. предложила отвезти меня домой. Мы поехали через Санта-Монику, чтобы она завезла по дороге подарок для А., грустной нервной дамы, которая после ухода третьего мужа бросила «Оскара» в океан.
В А. меня больше всего занимало то, как она использует косметику: брутально, беспристрастно, с холодной расчетливостью; она наносит краски и пудру так, словно лицо принадлежит кому-то другому, и в результате ей удается загладить то, что сделало с ней время.
Когда мы уходили, вышла прислуга и сказала, что нас хочет видеть отец хозяйки. Мы нашли его в саду с видом на океан; апатичный старик с голубовато-седыми волосами и коричневой, как от йода, кожей лежал с закрытыми глазами в лоскуте солнечного света, и ни один звук не беспокоил его, кроме убаюкивающего плеска волн и дремотного пения пчел. Старики любят Калифорнию, они закрывают глаза, и ветер в зимних цветах говорит им «спи», море говорит «спи»: это прелюдия к раю. От рассвета до заката отец А. следует за солнцем по саду, а в дождливые дни коротает время, делая браслеты из крышек от пивных бутылок. Он дает нам обоим по браслету и голосом, едва слышным из-за медового ветра, говорит: «Веселого Рождества вам, дети».