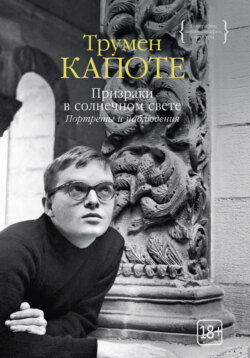Читать книгу Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения - Трумен Капоте, Трумен Капоте - Страница 5
Бруклин
(1946)
ОглавлениеЗаброшенная церковь, «АРЕНДА» уродует ее барочный фасад, поломанные пилоны в углу этой пропащей площади; воробьи гнездятся среди каменных цветов над дверью, исписанной мелом (Килрой был здесь, Сеймур любит Бетти, Ты урод!); внутри, где на разломанные скамьи падает солнечный свет, нашло приют разное бродячее зверье: из-за мутных стекол кошки смотрят на улицу, слышишь странные крики животных, соседские ребятишки подбивают друг друга войти внутрь и выносят кости, утверждая, что человеческие (а то какие же! Говорю, там мужика убили). Неисправимо уродливая, церковь эта символизирует для меня некоторые черты бруклинской натуры: у меня есть смутное предчувствие, что, если такое строение снесут, вместо него быстро воздвигнут другое, такое же старое и безобразное, ибо Бруклин – или цепочка городов, так названная, – в отличие от Манхэттена, не склонен к архитектурным изменениям. Не снисходителен он и к индивидуальности: в отчаянии созерцаешь бесконечные вереницы одинаковых бунгало с деревянной резьбой, домов из бурого песчаника и неизбежный пепельный пустырь, где грустные, милые, ожесточенные дети собирают листья и домашние деревяшки для октябрьских костров, грустные милые дети, которые гоняют по глянцевому августовскому асфальту с криками: «Бей жидов», «Бей итальяшек», «Бей копченых», по обыкновению этой страны, где душевная архитектура, так же как домá, не меняется.
Манхэттенские друзья, избегая сложной и тягостной поездки в метро (Слушай, Б., приезжай, какие-нибудь сорок минут и всего три пересадки, ей-богу), в ответ на любое приглашение говорят «извини». Поэтому я часто грезил о том, чтобы взять в аренду и отремонтировать церковь: кто устоит перед соблазном посетить такое любопытное жилище? Наяву, однако, у меня две комнаты в доме из бурого песчаника, на площади, где стоят двадцать его близнецов, а интерьер дома – темные викторианские дебри: лилейно-бледные, пухлоликие дамы в подопревших греческих одеяниях исполняют традиционные танцы на обоях; потускневшая ваза для визитных карточек в холле и стоячая вешалка, искривленная, как ели на побережье Бретани, – элегантные реликвии бруклинских более благополучных дней; гостиная пучится от пыльной бахромчатой мебели; на старом расстроенном пианино шеренгой выстроилась история семьи в дагеротипах, всюду подголовники, как маленькие рукодельные флаги, объявляющие об эпохе Респектабельности; на бисере ламп сквозняк вызванивает восточные мелодии.
Однако здесь есть телефоны: два наверху, три внизу и сто двадцать пять в полуподвальном этаже. Там, в полуподвале, мои хозяйки, можно сказать, прикованы к коммутатору: миссис К., низенькая женщина с утиной походкой, красным бульдожьим лицом, лиловыми выпуклыми глазами и невероятными оранжевыми распущенными волосами до талии, так же как у ее дочери. Миссис К. – женщина подозрительная, и подозрительность ее того рода, какая бывает у людей, которые все презирают и ищут для этого причину. А бедная мисс К. – просто измученная женщина: мягкая, сладкая, она трудится под грузом усталости с рождения до гробовой доски, и временами я думаю, вправду ли она мисс К., а не Зейсу Питтс[3]. Однако у нас с ней установились гармоничные отношения. В основе их – главным образом то, что оба страдаем головными болями, от которых волосы поднимаются дыбом. Чуть не каждый день она прокрадывается наверх и, посмеиваясь над своим дерзким озорством, просит аспирин; ее мать, поклонница Бернара Макфаддена[4], запрещает аспирин и все лекарства как «жарко́е из дьявольской печи». Их история – обыкновенная история: мистер К., владелец похоронного бюро, «исключительный хозяин», взял и ушел из жизни «без всякого предупреждения, с газетой „Нью-Йорк Сан“ в руках», оставив жену и старую деву-дочь «без видимых средств существования», потому что «один жулик уговорил папу вложить все деньги в фабрику по изготовлению искусственных траурных венков». Тогда они с матерью устроили внизу телефонный коммутатор. Десять лет, днем и ночью, сменяясь, они переключают звонки людям, выехавшим из города или отсутствующим дома. «Это мучение», – говорит мисс К., но скорбь ее наигранная, потому что роль деловой женщины – это самая реальная иллюзия из всех иллюзий ее жизни. «Честно говорю, не помню, сколько уже лет у меня не было часа спокойного. Мама тоже работает, храни ее Бог, но у нее столько болячек, знаете, я ее к кровати чуть ли не привязываю. Ночью, бывает, так голова заболит, смотрю на коммутатор, и кажется, все эти провода – словно руки и пальцы, удушат меня до смерти». Известно, что миссис К. иногда посещала турецкую баню около бруклинской ратуши; обособленность же усталой дочери абсолютна; если верить ей, за восемь лет она покинула полуподвал лишь однажды – и в тот выходной отправилась с матерью в Карнеги-холл, где Макфадден показывал на сцене гимнастику.
С ужасом слышу иногда ночами, как миссис К. взбирается по лестнице, чтобы предстать перед моей дверью: в выношенном атласном кимоно, с распущенными, как у валькирии, волосами, она сверкает на меня мрачным взглядом. «Еще две, – произносит она грубым баритоном, сулящим серу и огонь. – Мы видели из окна, еще две семьи проехали на фургонах».
Когда запасы желчи у нее иссякают, я спрашиваю: «Миссис К., чьи семьи?»
«Африканцы, – говорит она, негодующе моргая по-совиному. – Весь район превращается в сплошной черный кошмар. Сперва евреи, теперь эти; разбойники и воры, все до одного, у меня кровь стынет в жилах».
Подозреваю, миссис К. сама не догадывается, что это не спектакль, – она и вправду испугана: происходящее вовне не укладывается ни в какие ее представления; она жила мужним умом, но теперь его нет, и собственных мыслей у нее никогда не было, а только заемные. На всех дверях она поставила несусветное количество замков и задвижек, на некоторых окнах – решетки, и заведена дворняга с оглушительным лаем: кто-то снаружи, кто-то призрачный хочет попасть внутрь. Она спускается; каждый шаг извещает о ее весе; внизу ее отражение шарится в зеркале; не узнав в нем миссис К., она останавливается, тяжело дыша, и недоумевает, кто это появился; по спине подирает мороз: еще две сегодня, и завтра еще, наводнение, ее Бруклин – исчезнувшая Атлантида, даже ее двойник в зеркале (подарок на свадьбу, помнишь? Сорок лет, ох, что же случилось, скажи мне, Господи?) – даже там кто-то еще или что-то. «Спокойной ночи!» – кричит она. Щелк-щелк замки, заперта калитка, сто двадцать пять телефонов поют в темноте, греческие дамы танцуют в сумраке, дом вздыхает, успокаивается. Снаружи ветер приносит сладкий запах печенья из пекарни в нескольких кварталах отсюда; матросы идут к военно-морской верфи через освещенную площадь, смотрят на брошенную церковь, где их встречает холодный всезнающий взгляд желтых кошачьих глаз. «Спокойной ночи, миссис К.».
Слышал петушиный крик. Сперва странно, потом вспоминаешь о тайном невидимом городе, континенте задних дворов, благоденствующем как нигде: продавец из обувного, галантерейщик – землепашцы. «Собственная редиска, понимаете?» Недавно во Флетбуше арестовали женщину за то, что держала на заднем дворе свиней. Донесли, конечно, завистливые соседи. Вечером, приехав из Манхэттена, бываешь слегка обескуражен, когда видишь в небе настоящие звезды, и они по-настоящему сияют, когда плетешься по усыпанным листьями улицам, полным дымных, ничем не разбавленных запахов осени, и в сумерках, среди тишины, голоса детей, катающихся на роликах, извещают тебя, что ты вернулся: «Миртл, смотри, луна – как хеллоуинская тыква!» Под землей бурлит метро, наверху неон шинкует ночь, и да, я все-таки слышал петушиный крик.
Как группа бруклинцы являют собой преследуемое меньшинство; стараниями неизобретательных и не очень воспитанных клоунов любое упоминание Бруклина вызывает судорожный хохот; из-за этой зубоскальской пропаганды выговор бруклинцев, их наружность и манеры стали синонимом примитивнейших и вульгарнейших проявлений современной жизни. Начиналось это все, может быть, и с добродушных шуток, но свернуло в сторону злобы: теперь жить в Бруклине не совсем прилично. Странный парадокс: в этом районе обыкновенный человек, причисляемый чуть ли не к низам общества, с болезненным упорством отстаивает свою обыкновенность и делает из респектабельности религию; но из неуверенности родится лицемерие, и Большому Анекдоту он смеется громче всех: «Ну, Бруклин – это сдохнуть, умора прямо!» Да, умрешь со смеху, но, кроме того, Бруклин печален, жесток, провинциален, тосклив, человечен, молчалив, хаотичен, горласт, потерян, утончен, горек, инфантилен, невинен, порочен, нежен, загадочен – здесь Уитмен и Харт Крейн нашли стихи, – мифическая земля, в чей берег жалобно плещется зимнее море Кони-Айленда. Здесь почти никто не объяснит дорогу, никто не знает, где что; даже старые таксисты путаются; к счастью, я заработал ученую степень по метро – хотя наука езды по этим рельсам, пронизывающим толщу камня подобно сосудам в ископаемых папоротниках, уверен, требует усердия побольше, чем занятия в магистратуре. Мчишься в бессолнечных беззвездных туннелях с таким чувством, что тебя выбросило куда-то: поезд несет тебя под неправдоподобной землей, где туман и мгла, и только мелькающие мимо знакомые станции напоминают тебе, кто ты есть. Однажды, в грохоте проезжая под рекой, я увидел девушку лет шестнадцати, может быть только еще вступающую в женский клуб, – у нее была корзинка, полная сердечек из алой бумаги. «Купите одинокое сердце», – упрашивала она, проходя по вагону. Но бледным безразличным пассажирам оно не требовалось, и они только листали свои «Дейли ньюз».
Несколько раз в неделю ужинаю в отеле «Чероки». Это пансион, весьма старинный как в смысле декора, так и в смысле обитателей: младшему чероки, как они себя называют, шестьдесят шесть лет, старшему девяносто восемь; преимущественно, разумеется, женщины, но есть и горстка исхудалых вдовцов. Время от времени разражается война между полами; что она началась, легко догадаться: общая комната будет пуста; есть мужская гостиная и дамская гостиная, воинствующие стороны расходятся по своим убежищам: дамы – обиженные и раздраженные, мужчины – по обыкновению, молчаливые и угрюмые. Обе гостиные, помимо унылых скульптур, оборудованы радиоприемниками, и дамы, своим обычно не интересующиеся, включают его на полную громкость, как бы пытаясь заглушить вечерние известия у мужчин. Ор его слышен за три квартала, и хозяин, мистер Литллоу, человек молодой и нервный, бегает туда и сюда, угрожая отнять приемники или, еще хуже, вызвать родственников жильцов. Иногда ему приходится прибегнуть к этой последней мере; взять хотя бы случай мистера Гилберта Крокера, постоянного нарушителя, – в конце концов бедный мистер Литллоу вынужден был вызвать его внука, и вдвоем они прилюдно отчитали старика. «Постоянный источник разлада, – объявил Литллоу, направив палец на виновника, – распространяет грязные слухи об администрации, говорит, что мы читаем его почту, говорит, что мы имеем комиссионные от похоронного бюро „Каскейдс“, сказал мисс Броктон, будто седьмой этаж закрыт потому, что мы сдали его беглой преступнице (убила человека топором, он сказал). Хотя всем известно, что там прорвало трубы. Мисс Броктон сама не своя от страха, у нее очень ухудшилось трепетание сердца. Мы старались смотреть на все сквозь пальцы, но когда он стал бросать из окон лампочки, мы решили, что это уже слишком».
«Дедушка, почему ты бросал лампочки?» – спросил внук, беспокойно взглянув на часы и явно желая, чтобы старик поскорее встретился с Создателем.
«Не лампочки, сынок, – терпеливо объяснил мистер Крокер. – Это были бомбы».
«Ну конечно, дедушка. А почему ты бросал бомбы?»
Мистер Крокер обвел взглядом собравшихся чероки и с хмурой улыбкой указал головой на мисс Броктон.
«Ее… – сказал он, – ее хотел взорвать. Эта грязная свинья, она сговорилась с поваром, чтобы не давать мне шоколадной подливки, и сама бы все сожрала со своим толстым пузом».
Дамы с возмущенным кудахтаньем немедленно собрались вокруг намеченной жертвы, и казалось, что трепетание сердца вот-вот подбросит ее до потолка. Нон-секвитуры[5] миссис Аллен Т. Бонапарте прозвучали звонче всего:
«Убить дорогую мисс Броктон, вообразите! Вы не видели восковые фигуры в Лондоне? Ну, знаете, о каких я говорю: они так похожи, правда?»
И стало ясно, что сегодня вечером из-за приемников задрожат стекла.
Среди обитательниц есть одна настолько внушительная, что перед ней пасует даже Литллоу. Очень величественная, миссис Т. Т. Хьюитт-Смит; когда она входит в столовую, мерцая пожелтелыми плесневатыми бриллиантами, ее явлению не хватает только фанфар: запинающимся шагом она идет к своему столу (тому, что с розой, единственному с розой – бумажной притом), по пути принимая знаки почтения от светски настроенной части контингента: она живой памятник тех далеких времен, когда и в Бруклине наличествовало высшее общество. Но, как почти все, надолго пережившее свой расцвет, она пришла в упадок, превратилась в трагикомический гротеск: помада и румяна, которыми она пользуется неумеренно, выглядят на ее узком, усохшем лице прогорклыми, и удовольствия ее – нездоровые: больше всего ей нравится выступать с садистскими откровениями. Когда в отеле поселилась миссис Бонапарте и впервые вошла в столовую, миссис Т. Т. громогласно объявила: «Я помню это создание, когда ее мать была уборщицей в самой паршивой бане на Кони-Айленде». Другая ее мишень – безответные сестры Уэбстер: «Мой муж всегда их называл „занюханные старые девы“».
Я знаю секрет миссис Т. Т. Она воровка. Сколько лет уже она незаметно прячет дешевые столовые приборы отеля в свою расшитую сумочку, и однажды, надо думать – в минуту затмения, она явилась к хозяину с просьбой спрятать ее коллекцию в сейф. «Но, дорогая миссис Хьюитт-Смит, – сказал Литллоу, благородно скрывая изумление, – вряд ли они могут принадлежать вам. В конце концов, они не в вашем стиле». Миссис Т. Т., недоуменно сдвинув брови, осмотрела ножи и вилки. «Разумеется, нет, – ответила она, – нет, разумеется, у нас всегда были самые лучшие».
Уже несколько недель я не посещал «Чероки». У меня был сон. Приснилось, что бомба мистера Крокера всех их взорвала; правду говоря, боюсь пойти туда проверить.
28 декабря. Голубой хрустальный день, обидно сидеть в душном доме миссис К., и мы с другом пошли прогуляться в Бруклин-Хайтс; из известных мне мест только Бикон-Хилл в Бостоне и Чарлстон сохранили подобное ощущение старины (Vieux Carré[6] в Новом Орлеане стоит особняком из-за его отчетливо иностранного духа); из этих трех Бруклин-Хайтс кажется наименее придуманным и точно наименее эксплуатируемым. Он обречен, конечно; уже сейчас прокладывают туннель, запланировано шоссе; машины со стальными зубьями сгрызают палисады, старые особняки в темной заброшенности дожидаются сноса; новенькие красные «ОСТОРОЖНО! ИДУТ РАБОТЫ» поблескивают в мирной тени игрушечных диккенсовских улиц – Кранберри, Пайнэппл, Уиллоу, Миддоу. Приговором висит в воздухе пыль взорванного камня. В ранних сумерках мы купили ореховый пирог; сидели на скамье и смотрели, как зажигаются соты башен за рекой. Ветер взбивал барашки на холодной воде, пел в струнах моста, кружил крикливых чаек. Откусывая от своей половины пирога, я смотрел на Манхэттен и думал, какие руины он после себя оставил бы; что до Бруклина, археологи будущей цивилизации, так же как таксисты нашей, никогда не постигнут секрета его улиц, их замысла, их маршрутов.
3
Зейсу Питтс (1894–1963) – американская киноактриса, прославившаяся ролями нервных растерянных женщин в комедиях.
4
Бернар Макфадден (1868–1955) – пропагандист физкультуры и правильной диеты, фитнеса.
5
Non sequitur (лат.) – нелогичное заключение (букв.: «не следует»).
6
Французский квартал.