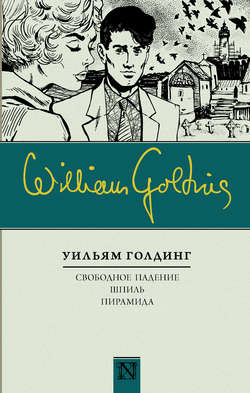Читать книгу Свободное падение. Шпиль. Пирамида (сборник) - Уильям Голдинг - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Свободное падение
2
ОглавлениеГенерал покинул свой особняк у дороги. Сторожка до сих пор на месте, вылезает на широкий тротуар из высокой ограды, окружающей акры кустарников и садов. Дом отошел в руки службы здравоохранения, и я не могу претендовать на изрядный общественный престиж тем, что живу практически по соседству. Трущобы уже не те, что раньше; а может, нынче их вовсе нет. От Гнилого переулка остались лишь пыльные контуры фундаментов среди битого кирпича и мусора. Люди, обитавшие в нем и в других подобных муравейниках, сейчас живут в новом благоустроенном поселке, что взбирается по противоположному склону долины. У них есть деньги, машины, телики. Да, некоторые до сих пор спят вчетвером в одной комнате, но зато на чистом постельном белье. Там, где сохранились дряхлые, грязные домишки – что в городе, что на окраине, – стропила выкрашены красным или синим. Кондитерская с двумя витринами бутылочного стекла сделана желтой и оттенена колером под цвет утиного яйца. Сейчас в ней все устроено, как полагается, а живущая там мечтательная пара выкидывает горшки в сарай. Город не стоит на голове, потому что ее больше нет. Мы превратились в амебу, готовую – а может, и не готовую – эволюционировать. Даже аэродром, что лежит на соседнем холме, нынче смолк. Земля пропахана на три дюйма и засеяна пшеницей, порой достигающей аж фута в высоту, как раз на программу госдотаций. Зимние дожди смывают плодородный слой с меловой подстилки, и тогда холм напоминает белесый череп с облезлой кожей. Меня одного тошнит или мы все изнываем?
Некогда аэродром был Меккой для детворы. Мы с Джонни Спрэггом залезали на край летного поля по откосу; из-за крутизны склона это можно было сделать только боком, цепляясь руками, чтобы перевести дух. Наверху имелась заросшая травой канава, часть одного из реликтов, что приглаженной вязью покрывают меловые холмы по всему побережью. Вдоль дальнего края тянулась проволочная ограда, и там мы лежали бок о бок среди скабиозы, желтого первоцвета и пурпурного чертополоха, разглядывали всяческую ползучую и крылатую мелочь в высокой траве и ждали, пока над нами не прогудит самолет. По этой части Джонни был докой. Он обладал способностью, присущей многим мальчишкам, кроме меня: порами кожи впитывать сложнейшие технические знания. Нет, у него не было доступа к подходящим публикациям, однако он умел определить любой самолет в поле зрения. Чуть ли не сам научился летать, еще не успев толком освоить чтение. Он понимал, как самолеты висят в воздухе, чутьем и любовью ухватывал концепции сбалансированных невидимых сил, которые держат их на нужном месте. Смуглый, предприимчивый и веселый крепыш, он был всецело ими поглощен. Если самолеты находились высоко, а не просто выписывали круги и садились, Джонни любил следить за ними, улегшись на спину. Мне думается, это давало ему ощущение, что он тоже витает там, наверху. Мое теперешнее, взрослое сопереживание подсказывает: ему, должно быть, казалось, что он покидает недвижную твердь и делит с самолетами ясную, вольную бездну из света и воздуха.
– Это старенький «де хэвиленд». В одном из таких летали в этот… как там его…
– Он сейчас в облако угодит.
– Да ну, слишком низко. А вон давешний «мотылек».
Джонни был экспертом. Он ведал вещи, которые и поныне меня изумляют. Как-то раз мы следили за самолетиком, который висел в полумиле над городом в нашей долине, и тут Джонни вдруг завопил:
– Глянь, глянь! Он же в штопор входит!
Я скептически фыркнул, и Джонни ткнул меня в бок:
– Смотри, говорю!
Самолетик клюнул носом, сверкнул серебряной рыбкой – и как пошел вертеться, искрясь отблесками: раз! раз! раз! Затем он перестал крутиться, задрал нос и степенно проплыл над нами, а парой секунд позже донеслась и секвенция звуков мотора, вторивших каждому его маневру.
– Это «авро-эйвиан», они больше трех витков за раз делать не умеют.
– Почему?
– Не смогут выйти.
Однако по большей части мы наблюдали за взлетающими и садящимися самолетами. Если пройти вдоль канавы и свернуть дальше, на косогор, обдуваемый господствующими ветрами со стороны городишки, то открывался отличный вид сбоку на летное поле. Самолеты зачаровывали Джонни, а вылезавшие из кокпитов фигурки были для него богами. Я и сам в какой-то мере заразился его страстью и тоже кое-что усвоил. Я знал, что при посадке самолет должен коснуться земли обоими колесами одновременно. Очень любопытное зрелище, потому что порой боги ошибались, и тогда самолетик «козлил», приземляясь дважды на пятидесяти ярдах. Эти случаи наполняли меня восторгом, а вот Джонни сильно расстраивался. Создавалось впечатление, что всякий раз, когда самолетик терпел аварию, скажем, деформировался подкос шасси, падали шансы, что Джонни выучится летать, когда подрастет. Так что в наши обязанности входило определение типов самолетов и наблюдение за тем, как их выводят из ангаров, обслуживают и пускают в полет. Насколько мне помнится, из полудюжины машин, стоящих на поле, как минимум одна была все время на ремонте. Особого интереса я не испытывал, но послушно следил за происходящим, потому что привязался к Джонни почти столь же сильно, как в свое время к Иви. Джонни был цельной натурой. Если выпадала нелетная погода, мы под дождем и ветром носились по меловым холмам, и Джонни почти все время держал руки в стороны – как два крыла.
Как-то раз на холм и влезать-то не было смысла, потому что мы едва различали его макушку. Но Джонни сказал: вперед – и мы пошли. Кажется, случилось это в пасхальные каникулы. До обеда погода еще держалась – ветреная, но вполне ясная, зато потом всю долину залил дождливый туман. Ветер подталкивал в спину, понукая лезть вверх, а дождь находил нас, где бы мы ни прятались. Стоило повернуть лицо и приоткрыть рот, как щеки раздувало ветром. Конусный ветроуказатель на вершине не просто гудел, а ревел, да и выглядел обкорнанным, потому что свободный конец обтрепался донельзя. Мы оба считали, что его следовало бы снять, но что делать: он так и продолжал хлестать на ветру под пение оттяжек гнувшейся под дождем мачты. Джонни полез через проволочную ограду.
Я нерешительно помедлил.
– Может, не надо?
– Дава-ай!
Видимости на летном поле было с полсотни ярдов. Я бежал вслед за Джонни в содрогающейся траве – и знал, чего он хочет. Мы поспорили об отметинах, которые делает самолет при посадке, и хотели увидеть их воочию; вернее говоря, этого хотел Джонни. Смотреть приходилось в оба, потому что это было священное и запретное место и дети здесь не приветствовались. Порядочно удалившись от проволоки, мы приближались к полосе, где садились самолеты, как Джонни вдруг замер.
– Ложись!
Сквозь пелену дождя просвечивал силуэт какого-то мужчины. В нашу сторону он не смотрел. У его ног стояла квадратная канистра, в руке он держал палку, а из-под дождевика выпирал какой-то комок.
– Джонни, нам лучше вернуться.
– Я посмотреть хочу.
Мужчина что-то крикнул, и откуда-то сверху, из тумана, донесся отклик. На аэродроме было полно народу.
– Джонни, пошли домой…
– Обойдем его с фланга.
Мы опасливо отступили в дождь с туманом и побежали в подветренную сторону. Но и тут стоял очередной человек с канистрой. Мы залегли, промокшие до нитки, и Джонни задумчиво прикусил кулак.
– Надо же, оцепление устроили…
– Они нас ищут?
– Нет.
Мы обошли последнего часового и очутились между полосой и ангаром. Эта игра мне уже наскучила, я проголодался, промок и порядком струхнул. А вот Джонни хотел ждать дальше.
– Будем держаться в стороне, они нас и не приметят.
Возле ангара звякнул и задребезжал колокол, знакомый мне и в то же время – в этих обстоятельствах – незнакомый.
– Что это?
Джонни, вытирая нос тыльной стороной ладони:
– Скорапомощь.
Ветер поутих, но воздух набряк темнотой. Низкая облачность несла с собой сумерки.
Джонни встрепенулся:
– Слышишь?
Едва заметный мужчина возле канистры тоже, должно быть, что-то услышал, так как замахал рукой. Над нами, окутанный туманным саваном как привидение, появился «де хэвиленд», чей допотопный профиль ускользал от глаз. Со стороны ангара донесся шум заводимого мотора санитарной кареты, кто-то принялся зычно командовать. Человек возле канистры стал поспешно макать палку в канистру. Ветер накрыл его черным дымом с наветренной стороны, где мерцала какая-то искорка. Ком тряпья на конце палки неожиданно занялся пламенем, а по соседству одна за другой вспыхивали новые искорки; их набралась целая шеренга. Вновь прогудел «де хэвиленд».
Туман к тому времени настолько сгустился, что от мужчины с факелом осталось лишь расплывчатое пятно света. Судя по звуку мотора, самолет закладывал вираж, гудел то ближе, то дальше – и вдруг вынырнул совсем рядом, темной кляксой прополз над нами и ангаром. Мотор взрыкнул как-то особенно громко, раздался хруст и треск лопающегося дерева, а потом и глухой, тяжелый удар, словно громыхнула пушка. Стройная шеренга огней в тумане развалилась, торопливо потянулась мимо нас.
Джонни сложил ладони рупором и зашептал, словно кто-то мог подслушать:
– Давай-ка мимо ангара – и мотаем отсюда.
Молчаливые и перепуганные, мы на рысях махнули к подветренной стенке ангара. Его неосвещенный торец был окутан дымом, в мокром воздухе чем-то пахло, а с противоположной стороны полыхало, билось пламя пожара. Едва мы свернули за торец и припустили к дороге, как невесть откуда возник человек. Высокий, без головного убора, вымазанный черным. Он заорал:
– А ну кыш отсюда! Еще раз замечу, спущу на вас полицию!
С тех пор Джонни какое-то время опасался подходить к аэродрому.
На другом холме, где нынче живу я, стоял генеральский особняк. Хозяин был из рода Плэнков, стрелял крупную дичь, а его жена открывала благотворительные базары. Семейство владело пивоварней у канала; где начиналась газовая станция, а где пивоварня – с ходу и не скажешь. Но все равно канал был просто неотразим: грязный, подернутый радужной пленкой, живший своей жизнью благодаря трубам, откуда постоянно хлестала горячая вода. Иногда под заляпанной мазутом стенкой причаливали баржи, и мы однажды ухитрились забраться на борт, где и притаились под брезентом. Впрочем, нас оттуда все-таки погнали, и вот как вышло, что в тот день мы впервые сделали вылазку на улицы другого холма. Бежать пришлось всю дорогу, потому что баржой командовал настоящий великан, не любивший детей. Этот подвиг нас изрядно вдохновил, и мы, по инерции восторга, влипли в очередное приключение. К позднему вечеру мы наконец добрались до ограды генеральского сада. Отдышавшись, Джонни пустился в пляс на тротуаре. Никому нас не поймать. Мы самые быстроногие. Это не под силу даже генералу.
– Генералу?! Да ты спятил! И не смей!
Но Джонни еще как смел.
Вообще-то, его похвальба не была столь уж дерзновенной. Забраться в генеральский сад попросту не вышло бы из-за очень высокой, сплошной ограды; к тому же репутация хозяина – охотника на львов – дала ход слухам, что по его уединенным акрам рыщут дикие звери; а мы верили этим слухам, чтобы сделать жизнь увлекательнее.
Да, Джонни еще как смел. Мало того, твердо зная, что ограда неприступна, он взялся отыскать способ проникнуть внутрь. Словом, мы пошлепали по улице, восторгаясь собственным нахальством и выглядывая в стене несуществующий лаз. Миновали сторожку, добрались до угла, свернули вдоль ограды на юго-восток, затем обследовали тыльную сторону. Повсюду сплошной кирпич, из-за которого выглядывали кроны деревьев. И тут мы разом замерли, не говоря ни слова. Да и что тут скажешь? Ярдов тридцать кладки обрушились, завалились внутрь, на деревья; темнеющая брешь напоминала всосанную нижнюю губу. Кто-то о ней уже знал, потому что кромка была загорожена проволочной сеткой, но целеустремленных верхолазов этим не остановишь.
Наступила моя очередь веселиться.
– Ну, Джонни, кто там хвастался?
– С тобой на пару.
– Я ничего такого не говорил!
Мы едва различали друг друга под сенью деревьев. Я двинулся следом, пробираясь рядышком со стенкой, где кустарники и ползучие побеги росли плотными и, по всей видимости, никем не посещаемыми дебрями.
Здесь пахло львами. Я сказал об этом Джонни, так что некоторое время мы оба стояли, затаив дыхание и слушая собственные сердца, пока не раздался какой-то новый звук. Был он похуже любого льва. Мы обернулись и напротив проема увидели – его; вернее, его куполовидный шлем и верхнюю половину темной униформы, потому как сам полицейский стоял нагнувшись и разглядывал потревоженную сетку. Решение мы приняли молча. Беззвучные, как кролики под забором, мы крадучись полезли вперед, подальше от фараона и навстречу львам.
Настоящие джунгли, а обнесенный оградой участок был целой страной. Наконец мы вышли к изрытому колеями пятачку, где шеренгами стояли какие-то стеклянные ящички, и там увидели мужчину, возившегося в дверях сарая. Пришлось быстренько удирать назад в кусты.
Залаяла собака.
Мы переглянулись в тусклом свете. Приключение принимало новый, крутой оборот.
Джонни буркнул:
– Ну, Сэм, как будем выбираться?
Через пару секунд мы уже вовсю попрекали друг друга и заливались слезами. Фараоны, работники, собаки – мы были окружены.
Перед нами расстилалась широкая лужайка, упиравшаяся на том конце в задний фасад особняка. Кое-где в окнах горел свет. Под окнами явно пролегала терраса, потому что вдоль карнизов с ритуальной торжественностью перемещалась некая темная фигура с подносом в руках. Уж не знаю почему, но такая сановитость нагнала на нас больше страху, чем мысль о львах.
– Как мы будем выбираться? Я домой хочу!
– Тс-с! Иди за мной, Сэм.
Мы тихонько обогнули лужайку с края. Высокие окна заливали траву длинными полосами света, и, чтобы не угодить в них, всякий раз приходилось нырять в кусты. Понемногу возвращалась бодрость духа. Ни львы, ни полицейские нас не заметили. Обнаружив темный закуток возле белой статуи, мы там и залегли.
Неспешно стихали людские голоса, и вместе с ними угасала наша нервная дрожь, так что львы оказались позабыты. Заблестел высокий фронтон особняка, полная луна выплыла над крышей, и сад тут же преобразился. Прудок возле дома замигал серебряным глазом; статные, осанистые кипарисы повернули матовый, словно подернутый инеем бок к ночному светилу. Я взглянул на Джонни: на его отчетливо видимом лице расплылось благодушие. Ничто нам не угрожало и не могло угрожать. Мы поднялись с земли и стали молча бродить по саду. Порой оказывались по грудь в темноте, порой утопали в ней с головой и затем выныривали, облитые лунным сиянием. Задумчивые статуи белели среди черных хвойных глубин, углы и закоулки сада бахвалились деревьями в цвету: редкость, которую в этом месяце нигде больше не увидеть. По правую руку от нас шла дорожка с каменной балюстрадой и цепочкой каменных ваз, окутанных резными каменными цветами. Здесь куда лучше, чем в парке, потому что опасно и запретно; да, лучше, чем парк, потому что тут есть луна и тишина; лучше, чем волшебный особняк, освещенные окна и бродившая под ними фигурка. Здесь мы как бы нашли себе дом.
Из особняка донесся взрыв смеха; завыла собака. Я вновь машинально брякнул:
– Хочу домой.
Чем объяснить ту защищенность, которую мы испытывали в этом необычном месте, в чем был его секрет? Нынче, пустив в ход воображение, я вижу нас со стороны: наивные оборвыши; на мне лишь рубашка да штаны, Джонни одет едва ли лучше, и вот мы бродим по саду замечательного особняка. Но я никогда не видел нас вчуже. В моем сознании, стало быть, мы остаемся двумя крупицами восприятия, блуждающими по раю. Я могу только догадываться о нашей невинности, но испытывать ее не в состоянии. Если я и чувствую расположенность к оборванцам, то лишь в отношении двух незнакомых людей. Мы медленно продвигались к деревьям, где обвалилась ограда. Наверное, мы заранее прониклись верой, что фараон успел уйти и нам ничто не воспрепятствует. Разок набрели на белую дорожку и поскользнулись на ней, слишком поздно поняв, что она покрыта свежим, еще не застывшим бетоном. Впрочем, ничего другого в саду мы не нарушили – ничего с собой не взяли, да и почти ничего не трогали. Мы были глазами.
Прежде чем вновь закопаться в подлесок, я обернулся. Этот миг хорошо запомнился. Мы находились в верхней части сада, откуда открывался вид на весь участок. Луна расцвела в своем заповедном, сапфировом свете. Сад же был черно-белым. Между нами и лужайкой стояло одинокое дерево: самое недвижное из всех, росшее лишь в те часы, когда на него не падали людские взоры. Громадный ствол, четкие ярусы ветвей, по которым, как мазутная пленка на воде, расплывались черные листья. Распластанные ветви слоями рассекали мятую фольгу пространства, объятого спокойствием слоновой кости. Позднее я научился называть это дерево кедром и шагать мимо, но в ту минуту это было для меня библейским откровением.
– Сэмми! Он свалил.
Джонни отогнул проволочную сетку и высунул свою героическую голову. На дороге ни души. Мы вновь стали маленькими дикарями и, юркнув наружу, выпали на тротуар. Ограду починят, да и дерево в саду вырастет – но уже без нас.
Сейчас я знаю, чего ищу, и почему эти кадры отнюдь не случайны. Я оттого их привожу, что они кажутся важными. К прямому сюжету моего рассказа они мало чего добавляют. Если б нас поймали, как оно со мной впоследствии и случилось, и за ухо отволокли к генералу, он, пожалуй, запустил бы в ход механизм, который изменил бы мою жизнь или жизнь Джонни. Но описанные мною кадры важны вовсе не этим: они значимы фактом самого своего существования. Я – их сумма, таскаю с собой этот груз памяти. Человек – тварь не сиюминутная, его нельзя считать просто физическим телом, отзывающимся на нужды текущего мгновения. Он – невероятный сверток из всевозможных воспоминаний, чувств, окаменелостей и коралловых наростов. Я не тот мужчина, что некогда был глазеющим на дерево мальчишкой. Я – мужчина, который помнит себя таким мальчишкой. Вот она, разница между временем, разложенным в бесконечный ряд мертвых кирпичиков, и временем, заново переснятым и прокрученным на фотопленке воспоминаний. К тому же есть нечто еще более простое. Я могу любить того ребенка в саду, на аэродроме, в Гнилом переулке, маленького сорвиголову-школяра, потому что он – не я. Он сам по себе. Если б его умертвили, я не стал бы испытывать чувство вины или хотя бы ответственность. Но что ж тогда я ищу? Я ищу начало этой ответственности, начало мрака, точку моего отсчета.
Филип Арнольд составлял третью сторону нашего мужского треугольника. Как мне его описать? Мы окончили приготовительный класс, перешли в мужскую школу, начальную, пронизанную ветром и асфальтированную. Я был упрям, физически крепок, закален, полон бодрости духа. Между кадрами Сэмми Маунтджоя с Иви и Сэма Маунтджоя в компании Джонни и Филипа лежит пропасть. Первый был ребенком, второй – мальчишкой, а вот градации исчезли. Два разных человека. Филип был со стороны, из квартала особняков. Бледный паренек, физическое воплощение предельного труса, с характером, который в наших глазах смахивал на размокший спичечный коробок, и все же ни генерал, ни бог на аэродроме, ни Джонни Спрэгг, ни Иви, ни даже мать не изменили мою жизнь так, как это сделал Филип.
Мы считали его размазней; любое насилие вгоняло Филипа в ступор, что и превращало его в отличную мишень: если у тебя чесались кулаки, он был всегда под рукой. Этих его свойств было достаточно, чтобы походя намять ему шею или дать пинка, а вот нечто более изощренное требовало тщательной подготовки, так что Филип нашел простой способ самоизбавления. Начать хотя бы с того, что он умел очень быстро бегать, а за перепуганным Филипом вообще никто не мог угнаться. Понятное дело, иногда мы загоняли его в угол, однако он изобрел тактику и на этот случай: сжимался в комок, даже не думая отбиваться. Может, тут проявлялся скорее инстинкт, нежели изобретательный ум, но этот прием срабатывал очень эффективно. Если ты не встречаешь сопротивления, то не можешь вдруг слиться заодно со своей жертвой; напротив, спустя какое-то время тебя брала скука. Филип съеживался как кролик под ястребом. Ни дать ни взять, кролик. Ну а затем, покамест он молча дергался под ударами, игра утрачивала всю свою прелесть. Вместо суетливой дичи ты видел мешок, невыразительный и неинтересный. Сам того не зная, Филип был философом с политической жилкой и умел добиваться желаемой цели. Он подставлял другую щеку, и мы отваливали в поисках более пикантной дичи.
Меня тревожит, что вы примете Филипа за простодушного недотепу. Пожалуй, он и впрямь напоминает главного героя из тех книжек, что одна за другой появлялись в двадцатые годы. Эти герои не годились для подвижных игр, были несчастными, непонятыми – мало того, трагическими – душами в школе, пока не достигали восемнадцати-девятнадцати лет и публиковали сногсшибательный томик стихов или посвящали себя оформлению интерьеров. О, нет-нет. Мы, конечно, вели себя по-хулигански, однако и Филип не был простачком. Он любил драки, когда доставалось кому-то другому. Если мы с Джонни устраивали потасовку, Филипп вихрем мчался на шум и аж приплясывал, хлопая в ладоши. Когда на спортплощадке мы устраивали кучу малу, наш бледноликий, пугливый Филип бегал кругами, заходя то с одной, то с другой стороны, и, подхихикивая, бил ногой по самым нежным местам в пределах досягаемости. Ему нравилось делать больно, а катастрофы и вовсе доводили до оргазма. По пути к главной улице имелся один опасный перекресток, так в гололедицу Филип проводил там все свободное время, надеясь поглазеть на какую-нибудь аварию. Если вам встретится пара-тройка юнцов, без дела околачивающихся на перекрестке – где угодно, хоть за городом, – то знайте, что как минимум один из них именно этого и дожидается. Мы азартная нация.
Филип не был – и не является – типажом. Весьма любопытная и сложная личность. Мы держали его за слюнтяя, достойного лишь презрения, но на деле он был куда опаснее любого из нас. Я был вожаком, и Джонни был вожаком. Каждый сколотил себе банду, и между нами вечно висел вопрос решающей битвы. С грустным удивлением я вспоминаю этих двух варварских главарей, до того невинных и простодушных, что они списали Филипа со счетов как мокрицу. Филип – яркий пример естественного отбора. Он как цепень в кишках был приспособлен к выживанию в этом современном мире. Я был вожаком, и вожаком был Джонни. Филип взвесил все аргументы и выбрал меня. Я думал, что нашел себе оруженосца, а он оказался моим Макиавелли. С бесконечным тщанием и истерической одержимостью самосохранением, Филип стал моей тенью. Обитая рядом с наиболее отчаянными из всей шатии-братии, он чувствовал себя защищенным. Поскольку он был так близок, я не мог устроить на него облаву, и мои охотничьи рефлексы уже не срабатывали на Филипа. Робкий, жестокий, взыскующий и в то же время страшащийся компании, быстроногий слабак, хитрый, сложный, никогда не бывший ребенком – он стал моим бременем, моим кривым зеркалом, моим льстецом. Тем, чем я, пожалуй, был в свое время для Иви. Он внимал и прикидывался, что верит. Фантазировать, как Иви, я не умел, мои рассказы выпячивали, а не замещали собой жизнь. Тайные общества, экспедиции, сыщики, Секстон Блейк («взревев, громадный грузовик прыгнул вперед»)… он делал вид, что всему верит, и вился вокруг меня вьюном. Кулаки и слава принадлежали мне – и я же был его шутом и глиной. Пусть он и не умел драться, зато ведал одну вещь, о которой мы ничего не знали. Филип разбирался в людях.
Мы все увлекались сбором вкладных картинок из сигаретных пачек. Обычное дело. У меня не было отца, источника материала для коллекции, а мать курила жуткую дешевку, которая распространялась благодаря не рекламе, а нищете покупателей. Никто бы не стал довольствоваться этой дрянью, если б мог позволить себе нечто получше. Единственное и весьма ограниченное чувство ущербности, которое я испытывал в Гнилом переулке, связано именно с этим обстоятельством: не в том смысле, что у меня не было отца, а просто недоставало картинок. То же самое я бы чувствовал, если бы моя семья была полноценной, но родители не курили. Вот и приходилось клянчить у прохожих:
– Мистер, у вас не найдется сигаретных картинок?
Нравились мне эти картинки, а в особенности – уж не знаю почему – я предпочитал серию с египетскими царями. Как было б хорошо, думал я, если бы у всех людей были их строгие, гордые лики. А может, я слишком усложняю, вперяя в прошлое свой взрослый взгляд? Уверен я лишь в одном: мне нравились цари Египта, они дарили удовольствие. Все прочее – безусловное истолкование взрослого человека. Этими картинками я очень дорожил. Выклянчивал их, выменивал, дрался за них, сочетая тем самым дело и потеху. Увы, вскоре никто из ребят потолковее не решался вступать со мной в схватку за картинки, потому как я всегда одерживал верх.
Филип соболезновал, тыкал меня носом в мою нищету, лишний раз указывая на мучительность стоящего передо мной выбора: или потерять надежду на пополнение коллекции царей, или выменять их на что-то иное и тем самым навечно расстаться с моей первой серией. Я по привычке дал Филипу затрещину – пусть не наглеет, – но сам знал, что он прав. Египетские цари были мне недоступны.
И тогда Филип сделал второй шаг. Кое-кто из малышей тоже владел картинками, которые были им совершенно ни к чему. Видеть, как они мусолят египетских царей, не зная им цены… Стыдобища!
Помню красноречивую паузу Филипа, помню, как пронзило меня чувство одиночества и вороватой затаенности. Я оборвал всю его промежуточную цепочку:
– Ну и как их заполучить?
Филип тут же подстроился. Я взял быка за рога, а он встал на мою позицию без дальнейших рассуждений. В таких делах он был гибким как резина. Все что нам надо – он так и сказал: «нам», это я отчетливо помню, – так это устроить засаду в каком-нибудь глухом местечке. А потом забрать картинки поценнее, раз уж они им ни к чему. Итак, требовалось подыскать глухое местечко. У туалета, до или после занятий – но только не на перемене, объяснял Филип. В это время там толпа. Сам он встанет посредине спортплощадки и подаст сигнал, ежели рядом объявится кто-то из учителей. Что касается сокровища (ибо с этого момента картинки объявлялись сокровищем, а мы – пиратами), оно подлежит дележке. Я могу оставить себе всех царей Египта, а он заберет остальное.
Это предприятие принесло мне одного египетского царя, а Филипу – штук двадцать всевозможных картинок. Замысел оказался короткоживущим и малопривлекательным. Я сидел в вонючем сарае, праздно разглядывая надписи, оставленные нашими более грамотными представителями и особенно заметные оттого, что их тщательно соскребывали. Сидел и ждал в пропахшей креозотом тишине под звуки автоматически наполнявшихся и опорожнявшихся туалетных бачков – денно и нощно, независимо от наличия или отсутствия клиентуры. Стоило появиться мелковозрастной жертве, как я без стеснения выкручивал ей руки, а вот отбирать картинки было неприятно. К тому же Филип просчитался, хотя я уверен, что урок пошел ему на пользу. Дело с самого начала оказалось отнюдь не столь простым, как мы думали. Старшеклассники быстро раскусили, что к чему, и захотели войти в долю, так что мне пришлось драться чаще, но без призового фонда; к тому же кое-кто из них вообще возражал против всего мероприятия. Затем поток мелюзги вовсе иссяк, а еще через пару деньков я очутился пред очами директора. Один из малюток, видите ли, отпросился с урока справить нужду, но сделал это за кирпичной стенкой котельной. Еще один элегантно обмочился прямо в классе, разревелся и сквозь сопли объяснил, что боится отпрашиваться из-за «большого мальчика». Устоявшийся процесс их обучения был немедленно прерван. Вскоре у кабинета директора выросла очередь из малышей, дававших свидетельские показания. Все тыкали пальцем в сторону Сэмми Маунтджоя.
Школа была гуманная и просвещенная. Зачем наказывать мальчика, если его можно заставить осознать вину? Директор старательно объяснил жестокость и бесчестность моих поступков. Он не спрашивал, делал я это или нет, ибо не хотел давать мне шанс соврать. Обрисовал связь между моей страстью к царям Египта и масштабом захлестнувшего меня искушения. О роли Филипа он не догадывался и ничего нового не узнал.
– Потому что тебе нравятся эти картинки, да, Сэмми? Только отнимать их никак не годится. Попробуй их нарисовать. И надо бы вернуть все, что сможешь. Постой-ка… вот, возьми эти.
И он дал мне трех египетских царей. Думаю, ему пришлось изрядно помучиться, чтобы их найти. Директор был славным, заботливым и старательным человеком, который и на милю не приблизился к пониманию детей, вверенных его попечению. Он оставил розги в углу, а мою вину – на моих плечах.
Вот она, искомая точка отсчета?
Нет.
Не здесь.
Но это еще не самое главное, чем удружил мне Филип. Следующим номером шел шедевр одержимости. И хотя его можно считать неумелой демонстрацией, небрежной ученической поделкой, он показал мне Филипа не просто абрисом, а в трех измерениях. Подобно ледяной макушке, которая торчит над водой и свидетельствует о великой пучине. Филип всегда был схож с айсбергом. Он до сих пор бледен, до сих пор погружен в себя, едва различим и опасен для мореплавателей. После истории с сигаретными картинками он какое-то время меня сторонился. Я же стал еще активнее нарываться на драки и не думаю, что более яростное желание подчинять и делать больно доступно для осознания лишь умудренным взрослым. Своим звездным часом я обязан Джонни. Из-за какого-то невразумительного и необузданного гнева на нечто и вовсе неопределенное я набросился на единственный предмет, который, как я отлично знал, не дрогнув примет бой: лицо Джонни. Но когда я заехал ему в нос, он оступился и раскроил себе голову об угол школьного здания. Его мать пошла к директору – Джонни, кстати, изо всех старался меня убедить, что он тут ни при чем, – и на меня вновь свалились неприятности. До сих пор помню чувство вызова и одиночества: человек против общества – вот что я тогда испытывал. В первый, но не в последний раз меня стали избегать. Директор полагал, что соответствующий срок в Ковентри[5] продемонстрировал бы мне ценность социальных контактов и убедил бы отныне не пользоваться людьми взамен подвесной груши.
В этот-то период ко мне вновь пристроился Филип. Он заверил меня в своей дружбе, и мы быстро спелись, потому что других приятелей я растерял. Джонни всегда уважал начальство. Если директор приказывал заткнуть рот, Джонни сидел тихо как мышь. Он любил приключения, но почитал власть. Филип же испытывал к начальству скорее не пиетет, а настороженность. Вот и подкатил ко мне вновь. Не исключено, что среди учителей он даже прослыл преданным другом и тем самым поднял свои акции. Кто знает? Я уж точно был ему признателен.
Умозрительно воссоздавая и оценивая наши отношения в те памятные недели, я прихожу в замешательство. Неужто он и впрямь был прожженным интриганом в столь нежном возрасте? Да возможно ли, что уже в ту пору Филип был таким трусливым, опасным и искушенным?
Когда я прочно к нему приклеился, Филип свернул разговор на религию. Эта тема была для меня не поднятой целиной. Если б я окрестился прямо сейчас, то это было бы крещением с оговоркой. Я проскочил сквозь эту сеть. Но Филип был англиканцем, причем (что совсем уж нехарактерно для тех дней) его родители блюли свою веру строго и преданно. Я лично познакомился с этой невероятной ситуацией с чужих слов, да и мало чего в ней понял. В школе у нас были заведены молитвы и псалмопения, но из них я запомнил только марш, под который мы шагали в классные комнаты, и еще тот случай, когда Минни показала нам разницу между человеком и животным. Раза два к нам заглядывал пастор, однако ничего не случилось. Мне нравилось слушать из Библии – и это чистая правда. Я все принимал в пределах границ читаемого урока. Если б в ту пору какая-то конфессия удосужилась сделать нужное усилие, я бы свалился им в руки как спелая груша.
Но Филип даже в том свежем возрасте начал объективно приглядываться к своим родителям и сделал определенные выводы. Отважиться на решительный шаг он не посмел, однако замер на самом краю, рассудив, что все это глупости. Хотя и не совсем. Загвоздка была в викарии. Филипу приходилось посещать какие-то занятия – вроде бы насчет подготовки к конфирмации[6]. А может, он был еще слишком юн? Собственно, пастор, чудаковатый, одинокий старик, не имел к этому никакого отношения. Поговаривали, что он пишет некую книгу, а жил он во внушительном доме при церкви, на пару с почти столь же дряхлой экономкой.
Чем на тот момент была для нас религия? Для меня ничем, а для Филипа – источником раздражения и досады. Лучше всех, пожалуй, устроился Джонни Спрэгг благодаря своему бездумному соглашательству и непотревоженности ума. Он знал, чего ждать от мисс Мейси, принимавшей жесткие меры к тому, чтобы мы усвоили все нам положенное. Да уж, мы знали свое место: запуганные до полусмерти и прибитые молниями, стоило только на секундочку отвлечься. Она была справедлива, но свирепа. Тощая, седовласая женщина, мисс Мейси все держала под полным контролем. Как-то раз, после обеда в погожий денек, когда за окном синело небо с громадами белых облаков, читала она нам урок. Раз уж мы не осмеливались делать ничего другого, глаза класса были прикованы к мисс Мейси – у всех, кроме Джонни. Он поддался своей главенствующей страсти. Среди облаков показался «мотылек» и принялся выписывать «горки», петли, спирали, вовсю нанизывая высокие небеса над Кентом. С ним был и Джонни. Он летел. Я понимал, что сейчас произойдет, и украдкой даже попытался его предостеречь, но мой шепот утонул в свисте ветра в расчалках и мерном рыке мотора. Мы знали, что мисс Мейси засекла нарушителя, потому что в атмосфере повисло еще больше благоговейного ужаса. Она продолжала говорить как ни в чем не бывало. Джонни вошел в штопор.
Мисс Мейси закончила изложение.
– Итак, дети, вы не забыли, отчего я рассказала вам эти три притчи? О чем они нам говорят? Филип Арнольд? Можешь ответить?
– Да, мисс.
– Дженни?
– Да, мисс.
– Сэмми Маунтджой? Сюзан? Маргарет? Роналд Уэйкс?
– Мисс. Мисс. Мисс. Мисс.
А Джонни заходил в пике на мертвую петлю. Он сидел и копил под своим стулом ту мощь, что вознесет его в небо. В летчицком шлемофоне, уверенный в себе, тонко чувствующий руль направления и штурвал, обдуваемый могучим ветром и запахом машинного масла, вездесущим, как жареная рыба с картошкой. Джонни медленно взял штурвал на себя, титаническая длань взметнула его ввысь, и он перевернулся вверх ногами на вершине петли, покамест никчемная черная земля с легкостью тени неслась куда-то вбок.
– Джонни Спрэгг!
Аварийная посадка.
– Марш сюда.
Джонни с громыханием вылез из-за парты платить по счетам. Полеты – дело недешевое: три фунта на двухместнике и по тридцать шиллингов в одиночку за каждый час.
– Так почему я рассказала вам эти три притчи?
Джонни держал руки за спиной, уронив подбородок на грудь.
– На меня смотри, когда я к тебе обращаюсь!
Подбородок чуток приподнялся.
– Почему я рассказала вам эти три притчи?
Мы еле разобрали его ответное бормотание. «Мотылек» убрался прочь.
– Незнаюмисс…
Мисс Мейси хлещет Джонни по обеим щекам, меняя руки. За каждым словом – пощечина.
– Бог…
Бац!
– …есть…
Бац!
– …любовь!
Бац! Бац! Бац!
Мы знали, чего ждать от мисс Мейси.
Итак, религия пусть и бессистемно, но вошла в наши индивидуальные жизни. Думаю, мы с Джонни смирились с ней как с неизбежной составляющей загадочного порядка вещей, всецело нам неподвластного. Правда, мы еще не сталкивались с викарием Филипа…
Он был бледным, напористым, искренним и святым. Пастор самоустранился от сонмища страхов и разочарований, впав в чудачества, так что за приходскими делами все больше и больше приглядывал отец Ансельм. Народ развесив уши внимал его захватывающим и пугающим проповедям. Свои рассуждения он приспосабливал к уровню аудитории. И словил Филипа. Проскользнул сквозь выставленное им охранение и принялся угрожать его знанию людей, его себялюбию. Он вытаскивал свою паству к главному алтарю и ронял ее на колени, даже не впадая в присущий валлийцам ораторский раж. Отец Ансельм оперировал конкретикой. Например, демонстрировал потир. Рассказывал про «Куин Мэри» или еще какой-нибудь грандиозный инженерный проект, над которым в тот момент шла работа. Вещал о богатстве. Вытягивал вперед серебряную чашу. У кого-нибудь найдется шестипенсовик, дети? Серебряный шестипенсовик?
И наклонял чашу. Внемлите, дети: вот о чем думают цари египетские. Потир-то вызолочен чистым золотом.
Филип был пронзен до самых пят. Ага, стало быть, в этом что-то есть. Они истолковали суть данного вопроса с тем же утилитарным пиететом, который задействовали во всех прочих делах. Позолотили его. В даровитом, извращенном уме Филипа религия отряхнулась от лжи и ответов в духе «Вы спрашиваете, откуда берутся дети? Их находят в капусте», став величественной силой. Но викарию этого было мало. Оглушив Филипа потиром, он прикончил его алтарем.
Вы, дети, этого не видите, но там живет Сила, сотворившая Вселенную и служащая вам опорой. К счастью, вы не можете ее видеть, как не дано было видеть и Моисею, хоть он об этом и просил. Если б пелена спала с ваших глаз, вас бы разнесло в клочки. Так вознесем же молитву, смиренно преклонив колена.
А теперь ступайте, голубчики. Захватите с собой мысль об этой Силе – возвышающей, утешающей, любящей и карающей, об оке недремлющем и опекающем без устали.
Филип ушел на прободенных ногах. Он не сумел объяснить мне, в чем дело, но теперь-то я знаю. Если все это правда, если это не очередная порция лапши, по-отечески навешиваемой на уши, то на какое будущее мог рассчитывать Филип? К чему тогда его интриги и дипломатия? А расчетливое манипулирование людьми? Что, если и впрямь существует иная шкала ценностей, на которой цель не оправдывает средства? Филип не умел это выразить, однако мог передать свое настоятельное, отчаянное желание узнать. Для меня золото всегда было символом, а не металлом. Я с восторгом выковыривал его из школы – смирна и чистое золото, златой телец – ах, как жаль, что его стерли в прах! – золотое руно, Златовласка, Златовласка, распусти свои… золотое яблоко, о, золотое яблоко!.. Их свет заливал мое духовное око, и я ничегошеньки не видел в Филиповом потире, кроме новой порции мифов и легенд. Однако сейчас я был изолирован и пребывал в Ковентри. По этой-то причине Филип вновь ко мне пристроился. Орудуя своей окаянной проницательностью, он взвесил и обмерил мое одиночество, мою озлобленность и вызывающую самонадеянность. Уже тогда он умел выбрать для дела верный момент и правильного человека.
Ибо как можно апробировать истинность заявлений отца Ансельма? Разумеется, здесь годился единственный метод: тот самый, что придуман для неосвещенных домов. Я бы звонил в дверь и убегал. Филип же занимал бы наблюдательную позицию и по результирующему отклику выносил суждение, есть ли кто в доме. Но перед этим меня нужно было довести до кондиции посредством моего одиночества и крайностей характера. Для начала он заработал себе мою благодарность. И мы пошли с ним вдоль канала. На перемене, пока дежурный учитель глядел в сторону, Филип завел разговор. Ведь он мой единственный друг. А остальные… да на черта они сдались, правда, Сэмми? Ну. Я как Большой Хью[7], мне на всех плевать. Даже на директора. Вон его окошко. Хочешь, расшибу?
– Заливаешь?
– Сказал расшибу, значит, расшибу.
– Серьезно?
Да я б и полицмейстеру окошко вынес, ясно?
Тут-то Филип и подверстал церковь к разговору. Стояла осень, темнело. Самое время для отчаянного дельца.
Нет, окна бить не надо, сказал Филип, и стал меня вываживать своими «ой, да ладно!», «кишка тонка» и прочее, а я заводился все сильнее, пока он меня не подсек. Еще сумерки не претворились во мрак, как я… «Да, Сэмми, я знаю, ты можешь вздуть любого из нашей школы, но вот такое… не-ет, тут у тебя пороху не хватит… да ладно, Сэмми, забудь, все равно тебе слабо`…». И все это подхихикивая, ужасаясь и хлопая в ладошки от предвкушения обещанной катастрофы.
– Да запросто! Расстегну ширинку и уделаю его вдоль и поперек.
Хи-хи-хи, шлеп, бр-рр, аж сердце выпрыгивает.
И вот через «слабо` – не слабо`» на осенней улице меня наконец-то подписали на осквернение главного алтаря. О улица, хладная в купоросном дыме и медном лязге! Да славится твой бурый пакгаузный профиль с газовым заводом под предвечными небесами! Да славится громаднейший лабаз из всех, притулившийся к кущам и оссуарию, подальше от сверкающего канала!
Пританцовывая и прихлопывая, Филип продвигался в авангарде, а я шел следом в сети ловца человеков. Не могу сказать, что меня знобило, хотя зубы так и норовили клацнуть, если я забывал стискивать челюсти. Пришлось окликнуть Филипа, чтобы он минутку обождал под мостом через канал, где я возмутил водную гладь концентрическими разбегающимися кругами со взбитой пеной. Филип тем временем сбегал вперед и вернулся – ни дать ни взять, щенок на прогулке с хозяином. По дороге я обнаружил, что у меня какие-то нелады с кишками, так что очередную остановку я сделал в темном переулке. Но Филип по-прежнему приплясывал вокруг меня, сверкая белыми коленками в полумраке. Слабо`, слабо` тебе, Сэмми…
Мы пришли к каменной ограде кладбища, угрюмым тисам и крытому входу, через который заносят гробы. Я вновь тормознул и попользовался стенкой, которую до меня орошали собаки, затем Филип лязгнул задвижкой, и мы вошли. Он перемещался на цыпочках, я брел за ним, и перед глазами у меня тьма разворачивала свои странные формы. Нас окружали высокие камни, а когда Филип поднял засов в разверстом зеве притвора, раздался такой звук, словно дверь вела в средневековый замок. Я крадучись скользнул в кромешную тьму, нащупывая Филипа вытянутой вперед рукой – но и сейчас мы не были внутри. Там имелась вторая дверь с мягкой обивкой, и когда Филип ее толкнул, она с нами заговорила:
– Бах.
Все же я двинулся дальше, Филип меня впустил. Что и как делать, я не знал, и отпущенная дверь опять бросила нам в спину:
– Бабах.
Церковь тянулась на мили; сначала появилось чувство, будто я попал в мир из полого камня, сплошных теней, намеков на глянцевые прямоугольники – неясных, как остаточное изображение на сетчатке, – непредсказуемых и пугающих фигур у самого носа. Я превратился в ничтожество со звенящими зубами, дергающейся кожей и волосами, растущими из самовольно расплодившихся мурашек. Филипа проняло не меньше моего. Но, видно, очень уж его заело. Я различал лишь его руки, физиономию и коленки. Физиономия маячила рядом. У нас состоялся яростный и сумасбродный спор в тени внутренней двери у притвора, где на столе высилась горка требников – нам по плечо.
– Я же говорю, слишком темно! Не вижу ни черта!
– Ага! Испугался! Только и умеешь языком чесать.
– Так не видно ж ни зги…
Мы даже попихались: неуклюже, потому что из-за его непредсказуемой женской силы я как-то ослаб. А потом непроглядная тьма рассосалась. Возникли расстояния. Я пушечным ядром врезался в нечто деревянное с зелеными огоньками, которые завертелись вокруг меня, затем разглядел дорожку и скорее догадался, чем понял, что по ней-то и надо идти. По ногам мне сквозило горячим воздухом из металлических решеток в полу. В конце дорожки к небу тянулось скопище тускло-глянцевых прямоугольников, а под ними виднелась махина. Возле алтаря – горящая свеча с дерганым пламенем, словно ее держал маньяк. От тишины звенело в ушах: высокой, кошмарной нотой. Вот ступеньки, чтобы подняться, а вот гладь ткани с белой полосой. Шлепая по лужам горячего воздуха из напольных решеток, я бегом вернулся к Филипу. Мы опять поругались и сцепились. Меня обуял благоговейный трепет от этого места; даже мою речь – и ту приструнило.
– Фил, я уже три раза успел… как ты не понимаешь? Не смогу я больше!
Филип поносил меня из темноты, поносил вяло, подло и искусно – по-братски.
– Ну ладно. Обдать не выйдет, зато могу плюнуть.
Я вернулся обратно сквозь горячий воздух, и латунный орел не удостоил меня вниманием. Хотя наступил вечер, было скорее светло, чем темно: достаточно, чтобы разглядеть высокие загородки резного дуба по обеим сторонам, напрестольный покров, черно-серый узор в каменной кладке пола. Я встал поближе к нижней ступени – насколько осмелился, – но во рту тоже пересохло, и я, сам того не желая, был за это благодарен. Отчаянно и законопослушно я ухватился за надежду на очередную осечку.
Наклонившись вперед под круженье зеленых огоньков, я орально испражнился – громко, чтобы и Филипу было слышно:
– Тьфу, тьфу, тьфу!
По правую руку взорвалась Вселенная. В правом ухе взревело. Ракеты, водопады огней, огненные колеса – и я уже шарил по камню. Сверху меня залил яркий свет циклопьего глаза.
– Ах ты, бесенок!
Я машинально попытался взгромоздить свое тело на ноги, но они разъезжались, и я вновь рухнул пред гневным оком. Сквозь пение и рев был слышен только один естественный звук.
Бах. Бабах.
Меня повлекло по каменному полу, а глаз танцевал снопом света на резном дереве, книгах и блестящей ткани. Сторож держал меня цепко и, затащив в ризницу, включил свет. Хоть меня и взяли с поличным, я не сумел блеснуть ни дерзостью, ни стоицизмом Черной Руки, когда его разоблачил Секстон Блейк на пару с Тинкером. Пол и потолок не могли меж собой договориться, где верх, а где низ. Сторож в буквальном смысле загнал меня в угол, а когда разжал пальцы, я бескостным мешком осел по стеночке. Жизнь резко перестраивалась. С одной стороны моей головы ее было больше, чем с другой, и она не предвещала ничего хорошего. Небо, полное отдаленного шума, в котором с беспредельной скоростью мчались звезды, влезало в меня справа. Бесконечность, мрак и космос вторглись на мой островок. Что же касается остатков моей нормальности, они осмотрели светильник, деревянный ларь, белые ризы на вешалке и латунный крест, кинули взгляд сквозь арку и увидели, что сейчас там светло. Сей мир ужаса и громовержения оказался всего лишь церковью, где шла подготовка к вечерней службе. На сторожа я не смотрел и не помню, каким было его лицо в ту минуту; я видел лишь черные брюки да сверкающие башмаки – ибо я в любую секунду мог свалиться с пола и расшибиться о потолок возле одинокой электролампочки. В арке возникла какая-то бледная дама с целым ворохом цветов, и сторож пустился в многословные объяснения, именуя ее «мадам». Предметом их беседы был я, к этому времени уже сидевший на низком табурете и изучавший даму одной половиной головы, потому что с противоположной стороны, через пробитую в моем черепе дырку, я инспектировал Вселенную. Сторож сказал, что я, дескать, «один из них». И что же ему прикажете делать? Надобна помощь, ведь вон до чего дошло, а храм теперь придется запирать. Бледная дама, свысока оглядев меня через континенты и океаны, ответила, что решать должен пастор. Тогда сторож отворил еще одну дверь и по щебенке повел меня сквозь темноту, приговаривая, что по мне розги плачут и, будь его воля, он бы мне всыпал, – ох уж эти мальчишки! Сущие бесенята, и с каждым днем все гаже, как весь этот мир, и куда он только катится, пес его знает, и никто этого не знает… Щебенка была зыбучей, как свежая пашня, а ноги мои потеряли всю прыть, так что я помалкивал и просто старался не упасть. Затем выяснилось, что сторож держит меня за руку, а вовсе не за ухо, а вскоре даже наклонился ближе, ухватив под локоть и за пояс. И болтал без передыху. Мы подошли к еще одной двери, и нам ее открыла очередная бледная дама, но уже без цветов, а сторож все не унимался. Мы поднялись по каким-то ступенькам, пересекли лестничную площадку и оказались перед внушительной дверью. Ведущей в сортир, потому что я слышал, как кто-то там тужится:
– О-ох! А-ах!
Сторож постучался, за дверью скрипнули половицы.
– Да входите же, входите! Что у вас?
По ковру без конца и края мы прошли в темную комнату. Посредине стоял приходской священник. До того высокий, что казалось, он макушкой врастал в сводчатые тени. Со странным безразличием и бесстрашием я оглядел все, что было мне доступно. Ближе всего, как раз напротив моей физиономии, располагались пасторские брюки со стрелочкой до колен, выше которых штанины пузырились и лоснились как черное стекло. Вновь два человека принялись надо мной спорить в выражениях, скользивших мимо моего внимания, ничего для меня не значивших и позабытых. Зато беспокоило и озадачивало нечто совершенно иное: меня все время заваливало набок. Даже хотелось встать на колени, но не из-за пастора, а потому что, если сжаться в комок, я, пожалуй, наконец перестал бы задаваться абсурдным вопросом: «А где здесь верх?». Понятно было одно: пастор отказывался что-то такое делать, а сторож его уговаривал.
Потом священник громко и, как мне сейчас кажется, с ноткой отчаяния промолвил:
– Ну хорошо, Дженнер. Так и быть. Если мне никуда не деться от посягательств…
Мы остались с ним наедине. Он отошел к потухшему камину, уселся в кресло, как в материнское лоно.
– Подойди.
Осторожно переступая по ковру, я добрался до подлокотника и встал рядом. Пастор подался вперед, наклонившись чуть ли не до своего черного колена, и окинул меня изучающим взглядом с макушки до пят, затем с пят до макушки и, наконец, остановился на моем лице.
Медленно и рассеянно он проговорил:
– Тебе бы умываться почаще, вышел бы прелестный ребенок.
Тут пастор стиснул подлокотники и вжался в кресло, словно почуял могильный холод. Увидев, что он хочет держаться от меня подальше, я стыдливо потупился от девчоночьего слова «прелестный» и моей грязи. Мы погрузились в долгое молчание, а я вдруг обратил внимание, что его узкие туфли повернуты носками внутрь. По правую руку от меня все так же ревела нафаршированная звездами Вселенная.
– Кто подбил тебя на эту мерзость?
Филип, конечно.
– Ты еще маленький и не мог сам до такого додуматься.
Бедняга. Я мельком глянул вверх, взвесил сложность объяснений, увидел, что это мне не вытянуть, и сдался.
– Назови имя этого человека, и я тебя отпущу.
Да не было никакого человека. А лишь Филип Арнольд и Сэмми Маунтджой.
– Почему ты это сделал?
Почему, почему… Да потому.
– Но ты же должен знать!
Ну конечно, я знал. Перед глазами так и стояла карта всей операции, что довела меня до этого рубежа, – о, я видел ее в мельчайших деталях. А деяние свое совершил потому, что Филип, побеседовав с еще одним священнослужителем, возомнил, будто в церкви содержится больше щекочущих нервы приключений, нежели в синематографе; потому что я был изгоем и не мог не делать больно из дерзости; потому что парнишка, врезавший Джонни Спрэггу так, что его мать помчалась жаловаться директору, был обязан поддерживать собственное реноме; и наконец, потому, что вконец иссяк, успев троекратно справить нужду под напев звезд. Я много чего знал… Знал, что мне полагалось бы учинить жуткий, по-взрослому въедливый допрос. Знал, что никогда не стану таким высоким и величавым, как он. Знал, что он никогда не был ребенком, что мы с ним разнородные создания, пребывающие в своем предписанном и неизменном месте. Знал, что вопросы будут точны, но бессмысленны, потому как их задают из чуждого мне мира, и на них не получится ответить. Они будут справедливыми, высокопарными и невозможными, эти вопросы из-за высокой ограды. Я по наитию знал: задавать такие вопросы – все равно что вычерпать воду ситом или ущипнуть тень; подобная интуиция – одна из горчайших бед детства.
– Ну так кто же тебя подучил?
Ибо так заведено, что, когда рассеиваются чары, призрачные враги, пираты и разбойники с большой дороги, воры, ковбои, славные люди и люди дурные, ты остаешься один на один с жестокой реальностью: с голосом взрослого человека в четырех всамделишных стенах. Вот где стражи порядка и сотрудники службы пробации, учителя и родители ломают цельность нашего простодушия. Герой низвергнут, скулит и беззащитен – пустое место, да и только.
Сколько бы я продержался? Сумел бы выдюжить, как Тинкер? Ему частенько грозили той или иной формой изощренного уничтожения, если он не расколется. Но я в тот момент был избавлен от подозрения в собственной несостоятельности, потому что внезапно потянуло домой, захотелось прилечь. А потом даже дорога домой показалась непосильной. Вселенная забуривалась мне в голову, мимо проплыл Млечный Путь, зеленые огоньки певучих звезд расплылись и заполонили все и вся.
Мои воспоминания об этом моменте сбивчивы, как горная дорога в туманную пору. Я вернулся домой на своих двоих? Неужто сумел? А если меня несли, то чьи руки? Все ж до Гнилого переулка я добрался и точно помню, что на следующий день, как обычно, даже был в школе. Но, пожалуй, не в себе. Словно долго-предолго стоял под изморосью и уже готовился распустить нюни – да только никакого дождя не было. Зато правая сторона головы казалась теплой, а в ухе стреляло. Сколько суток? Часов? В общем, сидел я в классе, а день, скорее всего, уже клонился к вечеру, потому что горели обе голые лампочки на длинных шнурах. Я устал от пальбы в правом ухе, устал от школы – словом, от всего устал и хотел лишь одного: лечь. Сижу, пялюсь на бумагу перед глазами и понятия не имею, что писать. В классе стояло шушуканье, и я как-то подсознательно понял, что всеобщее возбуждение и благоговейный страх адресованы именно мне. Мальчишку в соседнем ряду, чуть левее и впереди, подергали за полу пиджака, и он обернулся. Шушуканье усилилось, так что даже учитель вскинул голову. Тут Джонни Спрэгг, что сидел справа от меня, поднял руку:
– Извините, сэр! Сэмми плачет.
Мама и миссис Донован разбирались в ушных болях. Имелся целый ритуал. Некоторое время я был предметом интереса всех женщин в нашем переулке. Они собрались в кружок и, разглядывая меня, качали головами. С толикой удивления я сейчас сообразил, что мы ни разу так и не воспользовались верхней комнатой после смерти жильца. Может, мать надеялась найти нового постояльца, а может, ее безразличие к голой, пустующей комнате было предвестником окончательного упадка. Мы жили и спали внизу, словно над головой по-прежнему тикало и шипело чужое дыхание, просачиваясь сквозь побеленные доски. В общем, мое больное ухо пришлось держать рядом с печкой, да я и не возражал; здесь было вполне уютно. Мать развела жаркий огонь в средней дырке. Дама, растившая зеленый кожистый цветок, пожаловала с ведерком угля и советами. Мне дали проглотить горькие белые пилюли – аспирин, наверное, однако Вселенная продолжала забуриваться, неся с собой боль. Предметы разбухали. Я пытался скрыться от боли, но она гналась за мной по пятам. Мать и миссис Донован посовещались с цветочной дамой и решили меня проутюжить. Миссис Донован притащила утюг – я так понимаю, своего у нас не было? – черный, с бурым лоскутом вокруг ручки. Всамделишный чугунный утюг, в глубоких оспинах ржавчины, блестящий лишь с нижней, гладильной стороны. Цветочная дама приложила мне к виску тряпочку, а мать тем временем нагрела на печке утюг. Сняв его с огня, она поплевала на блестящий металл, и я увидел танец исчезающих слюнных бусинок. Присев рядышком, мать через тряпицу проутюжила мне полголовы, а цветочная дама держала меня за руку. Пока я прилежно впитывал тепло и надеялся на освобождение от боли, дверь отворилась, и к нам с поклоном вошел высоченный пастор. Мать отставила утюг, сняла тряпку и поднялась. Боль дала в голову так, что я заерзал, устроился на одном боку, затем перевернулся на другой, а потом и вовсе улегся ничком – и при всяком повороте я видел стоявшего в дверях верзилу-священника с отвисшей челюстью. Люди в комнате наверняка ходили и разговаривали, хотя этого я не помню. Глядя в прошлое, я вижу их застывшими как кромлехи. Тут боль принялась всерьез колотить в дверь моего сугубо личного, неприкосновенного ядра, я заорал и заметался. Пастор исчез, а потом из бездн огня и океанов мрака под дикими зелеными звездами в комнате возник здоровенный детина, который на меня набросился, скрутил, стиснул мне руки, подмял под себя и при этом повторял как заведенный:
– Один махонький укольчик, и все.
У меня за правым ухом есть сейчас серповидный шрам и морщинистая складка. Они такие старые, что кажутся естественными и вполне уместными. Приобрел я их в тот же день, или по крайней мере ночь. В ту пору не имелось ни пенициллина, ни прочих чудо-снадобий для подавления инфекций. При малейшем подозрении на гнойный мастоидит врачи тут же хватались за ланцет. Очнулся я в новом месте, новом мире. Я лежал над тазиком, до того измученный рвотой и слабостью, что не замечал ничего, кроме этой лоханки, окружающей белизны и коричневого глянцевого пола. Боль поутихла, стала тупой и пульсирующей, как в школе, где я разрыдался, однако на сей раз плакать не было сил. Я лежал в лекарственном дурмане, жалкий, в чалме из марли, ваты и бинтов. В какой-то из дней меня навестила мать. В первый и последний раз я увидел в ней не просто широкую, заслоняющую мрак фигуру, а человека. Порой одурманенный взор способен выхватить крупицу здравого смысла, не доступную во вменяемом состоянии. Исстрадавшийся, я видел мать глазами постороннего: тучное, грузное создание, испещренное пятнами и запачканное. Нависшие космы над бурым лбом; квадратное, отечное лицо с бычком в уголке рта. Теперь я вижу ее мясистые руки с перетяжками, смуглую кожу в красно-синих разводах, вижу пальцы, вцепившиеся в хозяйственную сумку на коленях. Сидела она как всегда: величаво-безразлично, хотя аэростат уже истекал газом. О каком гостинце могла идти речь, если эта женщина вынуждена заимствовать даже утюг? И все же она пораскинула умом и кое-что раздобыла. На тумбочку в изголовье кровати мать положила стопку довольно замусоленных картинок – милых моему сердцу египетских царей.
5
Здесь: колония для малолетних преступников.
6
Первое причастие юношей и девушек в англиканской церкви, обычно в возрасте 13–16 лет.
7
См.: Уайльд О. Настоящий друг.