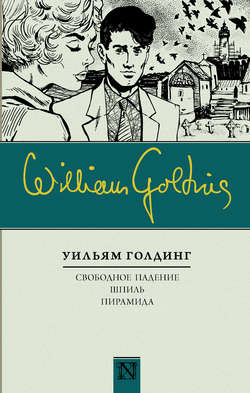Читать книгу Свободное падение. Шпиль. Пирамида (сборник) - Уильям Голдинг - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Свободное падение
4
ОглавлениеСвободу я утратил еще до того, как остановил свой велик на красный свет. В продымленном лабиринте Южного Лондона висел мост над паутиной железнодорожных путей, и там появилось новшество: светофоры. Эти штуки регулировали движение на север и юг, вдоль рельсов, отфильтровывая его из потока тех капель, что пытались просочиться вокруг Лондона, то бишь на восток и запад. Вещь была до того новомодная, что любой начинающий художник вроде меня не мог на это спокойно глядеть, не думая про тушь и размывку: чертим пером контур неожиданного предмета в форме боксерской груши, а размывкой передаем клубы дыма, отсветы и хлопья пены в осеннем небе.
Увы. Я не был всецело свободен. Не до конца. Ибо сей район Лондона носил на себе клеймо Беатрис. Она видела этот задушенный сажей и рельефный от грязи мост; грузное переползание автобусов по его горбу было наверняка ей знакомо. Тут она и жила в своей комнатке, на одной из улочек, заставленных скучными желтовато-серыми домами. Название улицы я знал: Скводрон-стрит; знал и то, что при виде ее имени на металлической табличке или почтовом ящике у меня вновь защемит сердце, колени лишатся силы, а дыхание пресечется. Я остановил велик на съезде мостового пролета, дожидаясь зеленого сигнала и езды под уклон с поворотом налево, – а свобода уже осталась за моей спиной. Не вставая с седла, поджидая, наблюдая за красным огнем, я позволил себе предаться беспокойному удовольствию, мысленно запечатлеть ее в позе пешехода, решительно и неудержимо шагнувшего вперед.
Меж домов и клубов дыма, где-то в четверти мили отсюда, проглянул силуэт внушительной церкви, и чувства, которые я считал выжженными, вдруг шевельнулись во мне, как лопнувшие семена. Вставь концовку, и все эти переживания вымрут. Но я концовок не вставлял. Сидя в седле, я ощущал все истоки моей неумеренной и дикой ревности; я ревновал Беатрис к тому, что она женщина, – поди разберись! – что у нее могут быть любовники и дети, что кожа у нее гладкая, а сама она кротка и мила, что ее волосы распускаются как бутон, что она ходит в шелках, душится и пудрится; я ревновал к беглости ее французского, благоприобретенного за пару недель, проведенных с друзьями в Париже, куда мне путь был заказан; я с необъяснимой, сектантской лютостью ревновал к ее респектабельной набожности и предполагаемому чувству сопричастности: предельная и законченная ревность к людям, которые могут овладеть ее расположенностью, вторгнуться в мысли и сокровенные таинства ее тела, куда мне вовек не вернуться… Я принялся обшаривать взглядом мужчин на тротуаре, этих обезличенных и привилегированных обитателей земли, по которой ступали ноги Беатрис. Да любой из них мог быть Им: мужем или сыном ее квартирной хозяйки. Сын хозяйки!..
А красный сигнал по-прежнему приказывал стоять. Я наконец обратил внимание, что на дорогах возникли заторы, и, стало быть, светофоры могли поломаться. Нас задержали – считай, обобрали. Еще оставалось время повернуть и вновь удалиться. Несколько дней, и чувства сами себя изживут. Но даже перед лицом этой открывшейся возможности я знал, что мне не вернуться. Мое тело само собой слезло на тротуар, перетащило туда велосипед и покатило его на красный свет.
Выше голову. На тебе дешевенький, но все ж чистый костюм; волосы подстрижены и причесаны; рыльце не блещет красотой, однако чисто выбрито и слегка отдает мужественным ароматом из рекламы. Башмаки – и те вычищены.
– И угораздило ж меня втюриться!
Тут я обнаружил, что преодолел с полсотни ярдов, по-прежнему толкая велосипед по тротуару, хотя здесь дорога была свободна. Футах в десяти над головой маячил громадный рекламный щит, где румянились щечки над тарелкой бобов. Сердце стучало быстро и громко, но не оттого, что я увидел ее или хотя бы подумал о ней. Нет, просто, шагая по тротуару, я наконец осознал свое истинное положение. Я пропал. Угодил в силок. Вновь затолкать велосипед на мост не получится; никаких физических препятствий на пути, зато вперед гнал лишь ничтожный шанс встретить Беатрис. Я даже вскрикнул, не в силах сдержать все те чувства, что проклюнулись из своих семенных коробочек. Опять я в западне. Сам себя изловил.
Ибо вернуться – значит… что? Все былое, да еще с довеском: ведь я увидел ее тротуары и людей, изобрел сына квартирной хозяйки – словом, кончил много хуже, чем начинал. Возвращение должно завершиться. Где? Может, в Австралии, а то и в Южной Африке… Но, так или иначе, конец будет один. Какой-нибудь субчик спросит меня мимоходом:
– Вы, случаем, не знавали такую Беатрис Айфор?
А я, с ноющим сердцем и до боли бесстрастной физиономией:
– Немножко. Учились вместе…
– Она…
Что она? Стала членом парламента. Была канонизирована католической церковью. Состоит в комиссии по раздаче пеньковых галстуков.
– …вышла замуж за одного типа…
«За типа». А могла бы и за принца Уэльского. Была бы королевой. Господи боже, до чего я докатился… Королева Беатрис, чей секрет раскрыт и постигнут, но не мною…
Я обращался к бобам.
– Да неужто всем достается такая любовь? Чтоб в ней было столько отчаяния? Тогда это не любовь, а сущее безумство.
А я не хотел ненавидеть Беатрис. Часть моего существа могла бы упасть на колени и взмолиться, как перед матерью или Иви: только будь и будь со мной, для меня и только меня… ничего я не хотел, кроме как предаваться обожанию…
Возьми себя в руки. Ты знаешь, чего хочешь. Уже решил. Так что двигай вперед и доведи дело до конца, шажок за шажком.
Они уже выходили из своего педагогического училища, я их видел: белокурых и бесцветных, хихикающих и прыскающих со смеху в стайках, рассыпающих звонкие «пока!», «до встречи!», машущих на прощание – всех этих девиц-молодиц, свободных птиц, пышных плюшек, долговязых горбушек, веселых, языкастых, квелых и очкастых… А я сидел в луже – то есть в канаве – со своим великом и хотел, чтобы их всех перебили, передрали, разбомбили или каким-то иным образом стерли с лица земли, потому что задача требовала подгадать в самый правильный момент. С другой стороны, она могла вообще не выйти… могла бы… слушайте, а какого черта они делают в своих девчачьих педучилищах в половине пятого осенним вечером? Толпа потихоньку расходилась. Если она первой меня заметит, пока я пугалом торчу в канаве и как пить дать ее жду, тогда все, пиши пропало. Встреча должна быть случайной; пусть она меня увидит едущим на велике. Я оттолкнулся и медленно-премедленно покатил, балансируя как эквилибрист, смутно надеясь, что вот-вот случится перелом, что она не выйдет и что мое своенравное сердце вновь сможет угомониться… велик мой вихляется, сердечко трепыхается… так, это она, в компании с двумя подружками, сворачивает и меня не замечает… Но я слишком часто репетировал этот номер в постели, чтобы позволить моему сердцу и отекшим рукам подвести хозяина. Весь процесс был механическим, плодом страшно сосредоточенной мысли и многократных повторений. Я ехал с залихватски-небрежным видом, одна рука в кармане, другая на бедре, – гляньте-ка, без рук могу! – раскачиваясь туда-сюда. Миновал ее, вздрогнул, оглянулся, вцепился в руль и юзом затормозил у тротуара, нахально ее разглядывая и ухмыляясь от крайнего удивления…
– Ого! Да это ж никак Беатрис Айфор!
Все три разом остановились. Мой отрепетированный лепет не оставлял ей шансов ускользнуть, не показавшись при этом невежливой; девицы, дай им бог здоровья, явно состояли в одной масонской ложе со «случайными» встречами, потому что почти сразу двинулись дальше, хихикая и делая нам ручкой.
– …да просто катил мимо… вот уж не думал не гадал… так это и есть ваше педучилище? А я сколько раз здесь ездил, теперь, видно, еще чаще придется… Ну да, из-за занятий. На велосипеде мне больше нравится, туда-обратно, туда-обратно… Да ну их, эти автобусы. Терпеть их не могу… Занятия-то? По литографии… А ты сейчас домой?… Ничего-ничего, я и пешком могу. Помочь? Я про ранец… Ну как тебе здесь, нравится? Трудная учеба?… А вид у тебя просто цветущий… о да. Знаешь что, я как раз собирался перехватить чашечку чаю на остаток пути… как ты смот… о-о! Но ты просто обязана! Такая встреча, в кои-то веки! Месяцы!.. Да хотя бы в «Лайонз». А велосипед могу здесь оставить…
И был круглый столик на трех чугунных ножках, со столешницей из искусственного мрамора. И она сидела напротив, выхваченная из всех жизненных лабиринтов, для меня одного, на много-много минут. Благодаря моему колоссальному труду и тончайшему расчету. За эти минуты предстояло многое достичь, выявить и решить, предпринять определенные шаги; ее требовалось подвести – какая ирония! – чуть ближе к полнейшей утрате свободы. Я слышал свой голос, бормочущий домашние заготовки и вносящий предложения, слишком общий характер которых препятствовал отказу; строил искусные допущения, складывавшиеся в принятие обязательств; я слышал свой голос, закрепляющий это обновленное знакомство и дипломатически продвигающийся вперед пядь за пядью; я следил за ее неописуемым ни красками, ни словами лицом – и мучился желанием сказать: ты самое загадочное и прекрасное создание на свете, я хочу и тебя, и твой алтарь, и твоих друзей, и твои думы, и твой мир. Я до того спятил от ревности, что готов убить воздух за то, что он тебя касается. Помоги мне. Я сошел с ума. Сжалься. Я хочу быть тобой.
Пронырливый, беспринципный, нелепый голос продолжал бормотать.
Когда она направилась к выходу, я пошел рядом, треща без умолку, излагая куртуазные, занимательные – чего уж там, заранее просчитанные истории, – приятный молодой человек в кадре взамен прежнего Сэмми, такого непредсказуемого, нахального и неизъяснимо порочного. Когда она остановилась на тротуаре, выразительно намекая на расставание, я сумел это принять, несмотря на круговерчение небес. Я позволил ей уйти на леске не толще паутинки, и пусть она не заглотила мотыля, он по крайней мере никуда не делся и продолжал танцевать над водой; и она, она тоже никуда не делась, не взмахнула хвостиком, не исчезла в водорослях или камнях. Я проводил ее взглядом и вернулся к велику с чувством выполненного долга: встреча с Беатрис в уединенности толпы состоялась, связь восстановлена. По пути домой мое сердце таяло от восторга, благорасположенности и признательности. Ибо все было хорошо. Ей девятнадцать, и мне девятнадцать; мужчина и женщина; мы поженимся – хотя этого она еще не знала и не должна была знать, не то забьется под водоросли и камни. Мало того: я был умиротворен. Потому что нынешний вечер она проведет над учебниками. Ничто ее не коснется. До завтрашнего дня, а там кто знает, чем она заполнит свой следующий вечер. Танцами? Синематографом? С кем? Но эта ревность была уже завтрашней, и на двадцать четыре часа я за Беатрис был спокоен. Я окружил ее благодарностью и любовью, которые несли с собой отчетливое чувство блаженства, непорочного и расточительного. Нищеброда легко привести в восторг даже самой малостью. Снова, как в школе, я жаждал не помыкать, а оберегать.
Итак, я вываживал ее на тонюсенькой лесочке, не видя того, что всякое дополнительное вервие опутывает меня канатным тросом. Конечно, на следующий же день я вернулся туда вопреки здравому смыслу, гонимый отчаянным позывом двигаться дальше, подхлестнуть ход вещей; а ее не было, не пришла она. И я провел ночь страданий, а назавтра уже с полудня околачивался на прежнем месте.
– Приветик, Беатрис! Похоже, мы и впрямь будем частенько встречаться!
Ей надо бежать, сказала она, на вечер кое-что запланировано. Я расстался с ней на тротуаре у «Лайонза», непосещенного рая, и дико страдал от бесконечных вариантов этого «кое-что». Теперь у меня была пропасть времени задуматься над вопросом о привязанности. Я начал смутно догадываться, что леску надо закреплять с обоих концов, иначе она ничего не сдержит.
Курьезная задачка.
– Приветик, Беатрис! Вот мы и снова встретились!
Мои планы начали разваливаться еще за мраморным столиком.
– Ну как, развеялась вчерашним вечером?
– Да, спасибо.
И тут, подстегиваемый нестерпимым, маниакальным побуждением знать, с колотящимся сердцем, с ладонями, вспотевшими от мольбы и гнева:
– А что же вы делали?
Помнится, на ней был костюм: серый, вроде бы из безворсовой фланели, в вертикальную зеленую и белую полоску. Поддетая блузка оставляла открытыми горло и ключицы. Пара мелкоплетеных цепочек золотым ручейком стекала по атласной коже и пряталась в сокровищнице. Что там таилось в глубине, между Гесперидами? Крестик? Медальон с вложенным локоном? Аквамарин, покачивающийся и поблескивающий в ложбинке – тайное и недоступное совершенство?
– Так что вы там устроили?
Контраст между строгим, приталенным костюмом с типично мужскими лацканами и мягким телом, которое он облегал… Неужели ты не понимаешь, что делаешь со мной? Но на виду были и перемены: слабый румянец на скулах и пристальный взгляд из-под длинных ресниц. Воздух между нами вдруг наполнился осознанием, пониманием на низеньком, как приступочка, уровне. Без слов, слова тут не требовались. Она знала, и я знал, однако не сумел сдержать в себе роковое слово. Оно дрожало у меня в голове, рвалось наружу как чих и вылетело с бешенством, презрением и болью.
– Танцульки?
Румянец перешел в багрянец. Приподнялся округлый подбородок. Леска натянулась и лопнула.
– Ну знаешь…
Она поднялась со стула, собрала учебники.
– Уже поздно. Мне пора.
– Беатрис!
Мне пришлось припустить рысцой, чтобы догнать ее на тротуаре. Прилип рядом, идя бочком.
– Извини. Просто… просто я ненавижу танцы… ненавижу! А когда подумал, что ты…
Шаг пресекся, нас развернуло вполоборота друг к другу.
– Значит, все-таки танцевала?
В парадное вели три ступеньки с выгнутыми чугунными перилами, нисходящими по обеим сторонам. Никто из нас не обладал нужным запасом слов. Она хотела сказать, что у меня нет никаких прав требовать отчета – если, конечно, ее интуиция не подвела и я именно этого добиваюсь. Я же хотел кричать: да посмотри же, я весь горю! У меня из головы, чресл и сердца рвется пламя! Она хотела сказать: даже если я, наполовину бессознательно, увидела в тебе мужчину – хотя ты совершенно несносен и лишь в последнее время слегка реабилитировался своим поведением, – как бы я ни старалась придерживаться обычных функций моего женского существования, допустив тебя до этой границы, правила игры должны быть соблюдены, а ты их нарушил и оскорбил мое достоинство.
Так мы и стояли: она на нижней ступеньке, я – держась за перила, с красным галстуком через правое плечо, куда его занесло моим буйным порывом.
– Беатрис! И все-таки?…
У нее были такие ясные глаза… Безмятежные, серые, честные – потому что ей никогда не предлагали плату за бесчестие. Я заглянул в них, ощутил беспощадную и отчужденную чистоту. Она довлела сама себе. Ничто и никогда не возмущало эти воды. Простри я к ней длань – доведенный до отчаяния и взмолившийся, косноязыкий и кипящий в океане зеленой юности, гонимый его приливами и отливами, – она лишь осмотрела бы ее, уставилась на меня и принялась недоуменно поджидать, чего мне надо.
– …все-таки танцевала?
Негодование и надменность, хотя и в уменьшенном масштабе, потому что леска, как ни крути, была толщиной с волосок, и принимать это оскорбление близко к сердцу – значит подразумевать, что я и впрямь посягнул на ее независимость.
– Может быть.
И с чу`дной грацией нырнула в дом.
Насколько велик жар сердечного чувства? И где взять тот индикатор, который бы показывал: вот, столько-то градусов? Я прокладывал обратную дорогу сквозь Южный Лондон, силясь выплыть из собственных раздумий. Я говорил себе: не надо преувеличивать; ты даже не совершеннолетний; будут вещи и похуже. Однажды ты сам скажешь: и я считал, что был влюблен? Еще в те далекие годы? Он был влюблен. Ромео был влюблен. Лир умер от разбитого сердца. Но где инструмент для сравнения? Докуда на длинной шкале добрался Сэмми? Ибо сейчас мои запястья, щиколотки и шею обвивали грубые веревки. Они протянулись по улицам, легли у ее ног: на, возьми их в руку, если хочешь. Что за пытка ехать прочь, волоча за собой многомильные канаты, и знать, что она не захотела… Может, она сама была привязана, в другом направлении? Но в это я не верил. При моем лихорадочном жаре процессы развивались быстро. Я был специалистом-психологом узкого профиля. Видел ее глаза, прочел в них безмятежность. Что за болван требовал знать, где она провела вечер, хотя при этом сам понимал, до чего тонкой была эта нить в самом начале? Никакого риска не имелось. Ее сердце осталось незатронутым, и единственной угрозой был неисповедимый господин случай, при столкновении с которым она могла вдруг полыхнуть. Я вошел в свою комнату, похлопывая кулаком по ладони.
Утешением была партийная работа. Председательствовал Роберт Олсоп, и атмосфера была насыщена дымом и значительностью. Остальные стояли, сидели или вовсе лежали, исполнившись возбуждения и презрения. Все архичертовски скверно, товарищи. Но не опускайте руки: уж кто-кто, а мы знаем свою цель. Сэмми, вы следующий. Попрошу тишины, товарищи, слово товарищу Маунтджою.
Товарищ Маунтджой сделал очень краткий доклад. Если на то пошло, он так и не добился никаких отчетов от Молодежной коммунистической лиги. Пришлось схалтурить. Дым – дымом, а термины – терминами, но весь мой напор и энтузиазм падали как в вату, так что когда я подобрался к нескладному заключению, мне влепили выговор и прописали занятия самокритикой. Вот с тех пор я ею и занимаюсь. Дело давнее, но я помню свою первую резолюцию, а именно: тем же вечером написать Беатрис и быть честным. И вторую резолюцию тоже помню: ни за что не приводить сюда Беатрис, потому что сначала ей пришлось бы переспать с товарищем Олсопом. Он был женат, однако ж супруга его не понимала, как если б он был не прогрессивным, а буржуазным школьным учителем; впрочем, до войны оставалась от силы пара недель, и кругом царили распад, развал и всеобщее остервенение, так что никто не заметил, что марксизма здесь не было и в помине, а просто разыгрывался древнейший обряд из всех. Тем не менее это как бы сообщало нашим женщинам (которые посмазливее) своего рода новое качество и, если можно так выразиться, подавляло их сопротивление.
Слово взял товарищ Уимбери, еще один учитель. Очень высокая и расплывчатая личность. Вспоминая, как нами руководили Олсоп и Уимбери, я, увы, далеко не сразу понял, до чего нелепо выглядела эта пара, ни дать ни взять комедийный дуэт из фарса. У Олсопа была громадная лысая голова и изуродованная физиономия с мокрым развратным ртом-закорючкой. За столом он казался широкоплечим и импозантным, но потом обнаруживалось, что он не сидит, а стоит. В жизни не видел столь коротеньких ножек. Олсоп не садился на стулья: он прислонялся к ним седалищем. Уимбери, напротив, обладал крохотным туловищем, и когда сидел рядом с Олсопом, его узенький подбородок и заячье личико едва виднелись над столешницей. Но стоило ему встать, как ноги-ходули толкали игрушечное тулово чуть ли не до потолка. В тот вечер он проводил с нами политзанятие и сыпал цитатами и аббревиатурами, доказывая, что войны не будет. Все это заговор капиталистов, направленный на… э-э… Забыл. Итак, глубокомысленно кивая, мы внимали лекции. Мы видели всю закулисную сторону. Знали, что через несколько лет весь мир станет коммунистическим и что правда за нами. Я попытался забыться, утонуть в журчании слов, но меня держали канаты.
В ту же ночь я написал Беатрис письмо. Рождественская открытка научила меня, что общаться можно лишь словами, а посему письмо получилось длинное. Жаль, что я не могу сейчас его прочесть. Я умолял ее читать внимательно – не зная, до чего избитым было такое начало в подобных письмах, не зная, что той же ночью тысячи молодых людей в Лондоне припадали с точно такими же письмами к точно таким же алтарям. Я объяснил насчет школы, пресловутого афродизиака. Вернулся к первому дню, когда сидел рядом с Филипом и пытался ее нарисовать. Изложил, что видел или считал, что увидел. Сказал ей, что я – беспомощная жертва, что моя гордыня не позволила объяснить это толком, но она – мое солнце и луна, что без нее я умру, что не рассчитываю на многое… пусть только согласится на несколько более особенные отношения, которые перевели бы меня в разряд повыше в сравнении с теми ее знакомыми, которых она мимоходом удостаивает своим благословенным вниманием. Потому что я, может статься, все-таки буду ей небезразличен – писал я в своей буржуазной листовке, – ведь может такое быть? Ибо я влюбился в тебя с того самого первого дня и навечно…
Два часа ночи, осенняя изморось, обложной лондонский туман. Я тайком выскользнул из дому, потому что семье, в которой я жил, полагалось доносить о моих перемещениях властям. И покатил сквозь ночь, не осмеливаясь объезжать посты. Сначала меня остановил один полицейский и записал имя и адрес, затем – двое. К третьему разу я настолько утомился, что честно признался истукану в синем мундире, что просто влюблен, и он махнул мне рукой и пожелал удачи. Наконец, я добрался до ее двери, просунул письмо и услышал, как оно упало. Трясясь на велосипеде и покачивая головой, я повторял себе: по крайней мере, ты поступил честно и, если честно, понятия не имеешь, что делать дальше.
Как они реагируют про себя, эти мягкие создания на дьявольских копытцах? Где та шкала, что отмечает градус их чувств? Насчет секса у меня все уже устроилось. Об этом позаботилась партячейка в лице Шейлы, чернявой и вульгарной. Мы наспех дарили друг другу мелкие удовольствия, словно пускали по кругу пакет ирисок. И даже считали это – абсурд! – декларацией независимости, которая провозглашалась старательным подражанием Олсопу. Это была свобода. Ну а другие, самодостаточные и закрытые, не тронутые девушки: что они чувствуют и думают? Может, они такие же мыльные пузырьки, как Сэмми из Гнилого переулка, уязвимые, но еще не пораненные? Да она наверняка уже в курсе! Но как это произошло? Спору нет, весь этот физический процесс выглядит мерзко и непристойно – уж я-то знаю, – тогда какой она видит любовь? Как некую абстракцию, где человеческого не больше, чем в пляске неоновой рекламы на Пиккадилли? Или любовь тотчас подразумевает белую фату, семейный очаг? Из года в год она раздевалась и одевалась, лелеяла свое нежное тело. И ни разу у нее не учащались пульс и дыхание при мысли: он влюблен, он хочет сделать со мной… это? Возможно, что при нынешней всеобщей просвещенности девственность уже потеряла свою неприкосновенную кастовость и девушки жаждут пуститься в плавание. В конце концов, речь идет о социальной условности. Она принадлежала к низшим слоям среднего класса, где инстинкт и обычай требовали хранить в целости то, что у тебя есть. В те времена великого могущества и стабильности это был целый класс, простонародный и скаредный. Не могу сказать, какой переполох я вызвал в ее голубятне. Не мог и не могу, ни тогда, ни сейчас; ничего о ней не знал и не знаю. Но письмо она прочла.
На этот раз я не стал делать вид, будто еду мимо. Я сидел на велике, придерживая руль одной рукой и опираясь ногой о тротуар. Они наконец гурьбой вывалились из двустворчатых дверей, и вместе с ними вышла она. Благословенные подружки уже были в курсе дела, потому что демонстративно зашагали прочь, даже не хихикая. Я посмотрел ей в глаза, сгорая со стыда за свою исповедь.
– Ты прочитала мое письмо?
Эти слова не вогнали ее в краску. Храня полнейшее молчание, мы зашли в «Лайонз» и присели к столику.
– Так как?
Тут она слегла зарделась и заговорила мягко и ласково, словно обращалась к калеке:
– Сэмми, я не знаю что тебе ответить.
– Там все без утайки, как есть. Ты (разводя руки в стороны) меня одолела. Я разбит в пух и прах.
– То есть?
– Это нечто вроде соперничества.
Но и сейчас в ее глазах я видел лишь пустоту непонимания.
– Ладно, забудь. Если не можешь понять, то… Слушай, хоть немного доброжелательности, а? Дай мне шанс… неужто я такое чучело? Ну да, не красавец, знаю, но ведь… (глубокий вздох)… но ведь… ты же знаешь, что я чувствую.
Молчание.
– А?
– Твои занятия. Они когда-нибудь кончатся. И ты перестанешь ездить этой дорогой.
– Занятия? Ты о чем?… А! Литография-то? Да нет, я имел в виду… если б мы… скажем, прогулялись бы за город, а ты могла бы даже… да я вообще безобидный, честное слово.
– Твоя учеба!
– Догадалась, значит? Я бросаю школу. Есть вещи поважнее.
– Сэмми!
Вот когда начали наполняться два безмятежных озерца. В них появились интерес, благоговение и толика задумчивости. Что ей пришло в голову в эту минуту? «Значит, это правда, он влюблен и пошел для меня на жертву? В конце концов, я того стою. Во мне что-то есть. Я нисколько не хуже других. Я – человек?».
– Так ты поедешь? Скажи, что поедешь, Беатрис!
Она была похвально добродетельна на всех уровнях. Да, она поедет, но я должен дать слово, – нет-нет, не в обмен, иначе это был бы торг – дать слово, что не брошу учебу. Думаю, она начинала видеть в себе некое средоточие власти, источник благотворного влияния, однако ее заинтересованность в моем будущем наполнила меня таким восторгом, что я не стал это препарировать.
Нет, не в воскресенье. В субботу. Воскресенье служит не для поездок, сказала она, слегка даже удивившись, что кто-то осмеливается посягать на такой день. Так я повстречался с моим первым и, если на то пошло, единственным соперником. Сейчас, как и тогда, меня изумляет, что, во-первых, я столь дико разозлился на этого незримого противника, а во-вторых, так и не нашел ни одного конкурента из плоти и крови. Ведь она была такой милой, неповторимой, прекрасной… а может, я выдумал ее красоту? Да если б все молодые люди напоминали меня, ей бы проходу не было. Неужели больше никто не обладал этим неутолимым желанием знать, стать другим человеком, понимать? Неужели подле нее не было иного сосуда со смесью из обожествления, ревности и набухшей мускусной плоти, кроме моего? Да и были ли они, эти другие? Всем ли ведомо, что значит снискать благосклонность и пережить при этом бурю восторга и признательности – и бешеной ярости, что это одолжение пришлось выклянчивать?
Мы бродили по меловым холмам в серую погоду, и я тряс перед ней своими талантами, сам себя удивляя. Описав тот подспудный позыв, что толкал меня к живописи, я преисполнился чувства собственной гениальности. Но ей я подавал это как недуг, который стоит на пути к респектабельной, зажиточной жизни. По крайней мере, так мне представляется, коль скоро тут сплошные домыслы. Я сам не понимаю свою жизнь – и это часть ее реалий. Мало того, Беатрис не облегчала мне задачу, потому что почти все время отмалчивалась. Я знаю лишь одно: видимо, мне удалось-таки изобразить перед ней картину мятущейся души, внушающей трепет и жалость. Хотя истина была куда менее масштабной, рана не столь трагичной и, как ни парадоксально, не столь легко излечимой.
– Ну как? Что скажешь?
Молчание; лицо в профиль. Мы спускались с гребня, чтобы нырнуть в сырую чащу. Остановились на опушке, я взял Беатрис за руку. С плеч свалились лохмотья самоуважения. Волков бояться – в лес не ходить.
– Но ты меня хоть чуточку жалеешь?
Она не отняла руку. Я касался ее впервые в жизни. Ветер подхватил и унес коротенькое «может быть».
Ее голова повернулась, лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. Я наклонился и нежно, целомудренно поцеловал ее в губы.
Мы, должно быть, еще погуляли, и я наверняка что-то болтал, но те слова сгинули. Помню лишь собственное изумление.
Хотя… Да-да, в памяти еще осталась суть моего открытия. Тем немым приглашением я был возведен в ранг «ее парня». Этот статус давал мне две привилегии. Первое: я мог располагать ее временем, а она не проводила бы его с другими мужчинами. Второе: я получал – в особых случаях, а также при расставании по вечерам – право на столь же сугубо целомудренный поцелуй. Я почти уверен, что в тот момент Беатрис рассматривала свой поступок в качестве профилактической меры. Кавалеры считались порядочными молодыми людьми, и, стало быть – так, наверное, рассуждала Беатрис, – если Сэмми будет ее кавалером, он тоже превратится в человека порядочного. Обычного. Ах, что за славная девушка!
Коммунизмом я не делился. Это не устроило бы моего соперника. Судя по всему, он был таким же ревнивцем, как и я, полагая, что грязью играть – руки марать. Но, по правде говоря, если бы не Ник со своим социализмом, я бы в жизни не сунулся в политику. Вместе с остальными я орал и согласно кивал – пусть и шел с ними оттого, что у них была хоть какая-то цель. Кабы не племянник мисс Прингл, нынче высоко поднявшийся среди чернорубашечников, я бы и сам стал одним из них. То время, однако, было особенным. Несмотря на все заверения Уимбери, убеждавшего и себя, и нас, что войны не будет, мы не питали иллюзий на этот счет. Окружавший нас мир сползал к темной арке, за которой лежала бушующая стихия, где нет места нравственным устоям, семьям и личным обязательствам. В воздухе пахло закатом Европы в нордическом духе. Пожалуй, вот почему мы были готовы переспать с кем ни попадя: никакой ответственности. Это распространялось, правда, только на тех, кто переживал такую же безумную лихорадку. Беатрис была из другого круга. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Был у нас один пролетарий. В остальном ячейка состояла из учителей, парочки священников, нескольких библиотекарей, одного химика, разномастных студентов вроде меня – и нашего самородка Дая Риса. Дай трудился на газовой станции, то ли углебойцем в кочегарке, то ли еще кем-то. Полагаю, что он хотел подняться по социальной лестнице, а наша ячейка казалась ему благородным собранием. Проявлял он себя вовсе не так, как предписывали учебники. Впрочем, наша армия состояла сплошь из генералитета. Дай послушно выполнял все поручения и даже не пытался понять, зачем это нужно. А потом он взбунтовался и получил выговор. Уимбери, Олсоп и иже с ними были «коммунистами в себе». Делать что-то публично для партии могли лишь студенты вроде меня, ну и, разумеется, наш пролетарий Дай. На него навалили столько всего, что на одном из собраний он разразился целой тирадой: «Ты, товарищ, греешь свой жирный зад неделями напролет, а я каждый вечер должен переться на холод продавать ваш поганый „Уоркер“!»
Вот ему и влепили выговор, и мне тоже влепили, потому что я, ни у кого не спросясь, в тот вечер привел на собрание Филипа. Мне хотелось придержать его рядом и поболтать про Беатрис и Джонни. А то он бы просто уехал и затерялся в центре Лондона. Больше всего меня поразило выражение встревоженной одержимости на бледной физиономии Филипа. Можно подумать, он влюбился… и о моем душевном состоянии говорит хотя бы то, что я вообразил, будто он тоже решил забросить свою карьеру, чтобы подгрести к Беатрис. Но Филип понаблюдал за физиономиями и подгреб к Даю. Когда собрание закончилось, он настоял, чтобы мы втроем сходили пропустить по кружечке. Даю, который отнесся к нему с огромным уважением, Филип устроил форменный допрос. А так как Дай был до мозга костей пропитан мещанством и своим поведением никак не соответствовал голубой мечте о светлом будущем, на вопросы Филипа взялся отвечать я. Мне захорошело, и с полной убежденностью и учащенным сердцебиением я подкатил к Филипу. Он, однако, вел себя уклончиво и был чем-то озабочен. Кстати, и к Даю он обращался властным тоном, оснований для которого я еще не видел. Наконец, он его попросту прогнал.
– Еще полпинты, Дай, и марш домой. Мне надо кое-что обсудить с мистером Маунтджоем.
Когда мы остались наедине, он взял мне еще выпивки, но сам добавлять не стал.
– Так что получается, Сэмми, ты знаешь свою цель?
Спасайся кто может, мчись сломя голову к черной арке.
– Можно подумать, это хоть кто-то знает.
– А этот… как его… Уимбери. Он знает? Сколько ему лет, кстати?
– Без понятия.
– Учительствует?
– Естественно.
– И чего ему надо?
Я прикончил пиво и заказал еще.
– Он работает на революцию.
Филип проводил взглядом мою кружку.
– А еще?
Я, должно быть, надолго призадумался, потому что Филип продолжил:
– Я к чему клоню… Он же обычный учитель? В государственной школе?
– Ну.
– Коммунистов в школьные директора не назначают.
– Да чего ты привязался? Чего ты все копаешь?
– Послушай-ка, Сэмми. Что он с этого имеет? Куда метит?
– Ну знаешь!
Куда может метить товарищ Уимбери?
– Филип, ты что, не въезжаешь? Мы ж не для себя стараемся. Мы…
– Узрели свет.
– Да хотя бы.
– Как и чернорубашечники. А теперь послушай… эй, утихомирься!
– Фашистская погань!
– Мне просто хочется разобраться. На их сходках я тоже был. Эй, Сэмми, не напрягайся. Я… как вы там выражаетесь… безыдейный.
– Да ты просто буржуй-обыватель, отсюда твои беды.
Выпивка меня подогрела, придала достоинства и убежденности в собственной правоте. Я приступил к сбивчивому и вымученному изложению доктрины. Филип не спускал с меня глаз ни на секунду. Наконец он поправил галстук и пригладил волосы.
– Сэмми… Когда начнется война…
– Какая еще война?
– А та самая, которая через неделю.
– Не будет никакой войны.
– С чего ты взял?
– Ты же слышал Уимбери.
Филип зашелся смехом. Я еще ни разу не видел его столь неподдельно веселым. Наконец он вытер уголки глаз и вновь серьезно взглянул мне в лицо.
– Сэмми, у меня к тебе просьба.
– Хочешь, чтобы я написал твой портрет?
– Держи меня в курсе. Нет, не только насчет политики. «Уоркер» я умею читать не хуже тебя. Просто мне хочется знать, как идут дела в вашей партячейке. Пульс, атмосфера. Тот, второй… с лысиной…
– Олсоп?
– Он-то что с этого имеет?
Я-то знал, что с этого имеет Олсоп, но говорить не собирался. В конце концов, любовь была свободной, а личная жизнь человека никого не касается, кроме него самого.
– Я почем знаю? Он старше меня.
– Ты вообще мало что знаешь, да, Сэмми?
– Хватит болтать, лучше выпей.
– И уважаешь старших.
– К бесу этих старших.
Пиво в ту пору подавалось холодным; после первых двух кружек ты соловел, но с третьей за спиной вырастали золотые крылья. Я прищурился на Филипа:
– А ты сам-то куда метишь, а, Филип? Заявился сюда… чернорубашечники ему, коммунисты…
Он же смотрел на меня сквозь пивной туман с клинической беспристрастностью и отрешенностью, постукивая белым пальцем по своим лошадиным зубам.
– Слыхал про Диогена?
– Да уж куда нам…
– Он ходил с фонарем. Все искал честного человека.
– Ты что, специально хамишь? Я – честный. И товарищи мои тоже… Фашисты поганые.
Филип подался вперед и уставился мне в лицо.
– Больше всего на свете Дая интересует выпивка. А тебя, Сэмми, что больше всего интересует?
Я буркнул ответ.
Филип наваливался и орал чуть ли не в ухо:
– Что-что? Какая еще Беатриче?
– Ты сам-то чего хочешь?
Пьяный глаз порой столь же зорок, как и взгляд марафетчика. Только самое существенное. Филип был залит ярким светом. А я – переживающий свои собственные сомнения, свою алогичную и хромую судьбу, которую сейчас более или менее вздернуло на ноги горькое пиво, – я смог увидеть, отчего не пьет Филип. Бледный и веснушчатый, недобравший в каждой линии тела по милости вселенской скаредности, Филип берег себя. Что имею, то храню. Вот почему костлявые ладони, лицо по дешевке и скошенный – словно на него не хватило материала – лоб были ограждены от жертвования, были лишены природной щедрости самой же природой, были натянутыми и осведомленными.
Давайте-ка я опишу его таким, каким видел в тот миг: одет лучше меня, чище и опрятней – белая рубашка, неброский галстук на центральном плане. Он сидел ровно, не горбился; хребет как стержень. Руки на коленях, ноги вместе. Волосы… Странноватой, неопределенной фактуры: растут во все стороны, но до того тонкие и некрепкие, что скорее напоминают изношенный половичок, облепивший голову. И настолько бесцветные, что линию поросли на скошенном лбу определяли крупные, светлые веснушки. Глаза водянисто-голубые и до странности обнаженные в электрическом свете – потому что у Филипа не было ни бровей, ни ресниц. Пардон, мадам, но за такую цену мы их не поставляем. Чисто утилитарная модель. Нос прилеплен щедрой рукой, но при этом какой-то оплывший, а силы сфинктерных мышц вокруг ротового отверстия хватало лишь на то, чтобы его запирать. Ну а как насчет мужчины, что жил внутри? Как насчет того мальчика? С ним я устраивал махинации по добыче вкладных картинок, боролся в темном храме… а он меня надувал и валтузил. Я принял его дружбу, когда отчаянно нуждался в друге.
Ну а мужчина?
Он умел улыбаться. Именно это сейчас и демонстрировал сосредоточенной конвульсией своего ротового жома.
– Чего хочешь ты, Филип?
– Я тебе уже сказал.
Он поднялся и стал натягивать дождевик. Я хотел было предложить ему проводить меня до дому, потому как начинал сомневаться, что сумею попасть туда сам, однако он упредил мой непрозвучавший намек:
– Не утруждайся, до метро я и так доберусь. Я спешу. Вот конверт с моим адресом. Не забудь: время от времени сообщай, как идут дела в вашей ячейке. Какое настроение у людей.
– Да на кой черт тебе это надо?
Филип оттянул на себя дверь.
– На кой черт? Я… я инспектирую политическую кухню.
– «Честный человек…». И ни одного не отыскал.
– Конечно, нет.
– А если отыщешь?
Филип замер в дверях. На улице – тьма в глянцевых метках дождя. Он вернул мне взгляд из глубины своих сырых глаз, из очень далекого далека.
– Буду очень разочарован.
* * *
Я скрывал от Беатрис свою тягу к выпивке, потому что забегаловка была для нее столь же проклятым заведением, как и англиканская церковь, – разве что ступенькой ниже. В ее родном поселке, милях в трех от Гнилого переулка, все выпивохи принадлежали к англиканам, а мужчины в мелкорубчатом поплине – к нонконформистам. Англиканская церковь занимала верх и низ, нонконформисты находились посредине и были классом, с мрачным упрямством следившим за тем, чтобы не вляпаться в грязь. Я много чего утаивал от Беатрис. Самого себя я вижу затравленным, замотанным, взъерошенным, в нечищеных башмаках, расстегнутой серой рубашке, в синей куртке с отвислыми и набитыми как переметные сумы карманами. Я быстро зарастал и перед свиданиями с Беатрис брился. Спасибо партии за красный галстук: хоть одна деталь моего гардероба была решена. Что же касается рук, то они по запястья были в желтых пятнах от табака. Не было во мне ни солнечной простоты Джонни, ни присущего Филипу умения ориентироваться – и все же я для чего-то существовал. Был для чего-то предназначен. Когда я делал, что мне велели, когда послушно работал карандашом и красками, меня удостаивали умеренных похвал. Из меня, пожалуй, вышел бы неплохой учитель, знаток всяких мелочей и заведенного порядка вещей. Поставьте задачу, и я найду для нее бесхитростное, по-академически надежное решение. И все ж порой я испытывал связь со своим сокровенным колодезем и затем срывался с привязи. Все мое естество пронизывало чувство страстной уверенности. Не так, а эдак! В такие минуты я переворачивал мир кажущихся проявлений с ног на голову, забирался в глубину, беспощадно разрушал и воссоздавал заново – но не ради живописи или Искусства с большой буквы, а ради вот этого, текущего, предельно конкретного творения. Если бы я, подобно Филипу, с Диогеном порыскал на собственной кухне в поисках честного человека, то нашел бы его, и он оказался бы мною. Искусство – в какой-то степени общение, но лишь частично. Все остальное – открытие. Я всегда был созданием, живущим открытиями.
Я говорю об этом не в собственное оправдание… или как? Нельзя же иметь две морали: одну для художников, а вторую для все прочих. И те и другие заблуждаются. Если кто-то возьмется меня судить, пусть сделает это, считая меня бакалейщиком из нонконформистов. Пусть я и написал несколько стоящих полотен – шмякнул людей носом об иной взгляд на мир, – я все же не сбывал им сахар и не приносил молоко к их порогам ранним утром. Я к чему клоню? Мне, наверное, хочется объяснить, кем я был в молодости, – объяснить самому себе. Да и где взять иную аудиторию? И здесь, и на холстах я – открыватель, а не повествователь. И все это время, раздираемый то обидой, то признательностью, я тянулся к Беатрис, напоминая зачаленную лодку, влекомую волной. Разве можно винить эту лодку, если она наконец сорвется со швартова и поплывет по течению? Сей молодой человек – затягивавшийся сигаретами поначалу для удовольствия, затем для одурения, а потом и вовсе не извлекавший из них ничего, так что курение превращалось в чисто механический жест; пивший поначалу ради фосфорического свечения и неподдельности стены или притолоки, затем ради побега из мира абсурда в мир апокалипсиса; полностью отдавшийся партии, потому что там знали, куда катится этот мир… сей молодой человек, дикий и невежественный, просящий и отвергающий помощь, горделивый, любящий, пылкий и одержимый… да разве могу я осуждать его за совершенные поступки, коль скоро в ту пору он был напрочь лишен представления или надежды на свободу?
Но Беатрис надеялась на свое благотворное влияние. Мы вновь прогулялись. Писали друг другу записочки. Я притерся к ее лексике, узнавал о ней все меньше и меньше. Она встала у дерева, я обнял ее и весь дрожал, но Беатрис этого не замечала. Я твердо решил исправиться, взойти на высший уровень и раз и навсегда покончить со своими беспрестанными поисками. Нагнулся ближе и прижался щекой к щеке. Проследил за ее взглядом.
– Беатрис…
– М-мм?
– А что ты чувствуешь?
Вопрос здравый, вытекающий из моего восхищения Иви и матерью, из подростковых фантазий и болезненной одержимости все открывать и всему лепить ярлыки. Здравый – и невозможный.
– Да так…
На что это похоже: занимать центр чьей-то вселенной, быть мягкой, прекрасноликой и нежной, от природы опрятной и чистой, желанной до помрачения рассудка, жить под этой гривой волос, за этими неописуемыми глазищами, ощущать колыхание этих прикрытых близнецов с ложбинкой и стремительным падением к крошечной талии, быть ранимой и неуязвимой? Каково это: принимать ванну, ходить в уборную, шагать по тротуару не размашисто и на высоких каблуках? Что ты чувствуешь, зная, что твое тело источает легкий аромат, от которого лопается мое сердце и блуждает рассудок?
– Нет-нет, расскажи.
И ты умеешь все это ощущать до последней цифры после запятой? Знаешь и чувствуешь незаполненность собственного лона? А как это: бояться мышей? Быть осмотрительной и безмятежной, опекаемой и миролюбивой? Какими ты видишь мужчин? Всегда одетыми, в пиджаках и брюках, кастрированными как гипсовые модели на уроке рисования?
Беатрис чуть шевельнулась, словно собралась отойти от дерева. Мы стояли, прислонившись к стволу, она к тому же прильнула к моему плечу, а я обнимал ее за талию. Отпускать ее я не собирался.
Но самое главное – даже главнее мускусных сокровищ твоего белого тела, столь близкого и недоступного, – итак, самое главное: в чем твоя тайна? Я не могу задать тебе этот вопрос, потому что едва-едва способен его сформулировать. Но раз свобода воли познается лишь на деле, как и вкус картофеля; раз мне все же довелось узреть в твоем лице и вокруг него нечто неподвластное моему карандашу и памяти; раз я не в состоянии показать твой образ, хотя бы отдаленно напоминающий живую Беатрис, – Христа ради, допусти до своей тайны. Я капитулировал пред тобою. Плыву по течению. Даже если ты сама не знаешь, что ты такое, хотя бы прими меня.
– Беатрис, а где ты живешь?
Она вдруг снова попыталась отодвинуться.
– Стой. Нет, глупышка, я не адрес спрашиваю. Внутри. Мы касаемся висками. Ты там живешь? Между нами расстояние не больше дюйма. Я вот живу возле затылка, прямо там, внутри… скорее у затылка, чем у лба. А ты как? Ты живешь… вот здесь, да? Если я положу пальцы тебе сзади на шею и подвину их вверх, я правильно попаду? Еще выше?
Она отпрянула.
– Да ты… Перестань! Сэмми!
Как далеко ты простираешься? Ты – черная центральная клякса, неспособная исследовать самое себя? Или ты обитаешь в ином режиме, не в мыслях, растягиваясь в безмятежности и определенности?
Но верх одержал мускус.
– Сэмми?
– Я же сказал, что люблю тебя. Господи боже, разве ты не понимаешь, что это значит? Я хочу тебя, я хочу тебя всю, не одни лишь холодные поцелуи и прогулки… я хочу быть с тобою, и в тебе, и на тебе, вокруг тебя… я хочу слияния и тождественности… О боже! Беатрис, Беатрис, я люблю тебя!.. Я хочу быть тобой!
Это был миг, когда она могла бы убежать, убежать достаточно далеко, чтобы написать мне письмо и затем шарахаться. Если на то пошло, это был ее последний шанс – да только она этого не знала. К тому же не исключено, что даже ее кожа-оболочка испытывала тепло и телесное возбуждение от пребывания в моих крепких руках.
– Скажи, что любишь меня, или я сойду с ума!
– Сэмми… опомнись… Ведь заметят же…
– Да провались они! Смотри на меня.
– Я думала…
– Что мы друзья? Вранье.
– Я думала…
– Ошибаешься. Мы не друзья, нам никогда не стать друзьями. Ты что, не чувствуешь? Мы гораздо больше… должны быть больше. Целуй меня!
– Не хочу. Сэмми, послушай… да прекрати ты! Дай подумать.
– А ты не думай. Чувствуй. Что, не получается?
– Не знаю.
– Выходи за меня.
– Нам нельзя. Мы еще студенты… у нас и денег-то нет.
– Тогда скажи, что выйдешь за меня. Когда-нибудь. Когда можно будет. Ну, говори!
– Сюда идут.
– Если ты не выйдешь за меня замуж, я… я…
– Увидят же!
– Я тебя убью.
По тропинке к нам приближались мужчина и женщина, держась за руки, частично решив свои вопросы. Нас они старательно не заметили, а затем исчезли из виду.
– Итак?
По голым ветвям защелкал дождь. Убийство – убийством, а дождь – дождем. Мы двинулись дальше; я держался чуть позади ее плеча.
– Так что ты решила?
Ее лицо пунцовело, было мокрым и блестящим. В волосах висели гроздья бисеринок и бриллиантов.
– Сэмми, нам бы прибавить шагу… Если пропустим автобус, следующего ждать и ждать…
Я вцепился ей в запястье и развернул кругом.
– Я не шучу.
Ее глаза и сейчас были ясными, безмятежными. Хотя и блестели ярче, о, куда ярче, то ли мятежной непокорностью, то ли триумфом.
– Ты сказал, что я тебе не безразлична.
– Господи боже!
Я оглядел ее хрупкое тело, ощущая под пальцами тонкокостный череп, округлую и беззащитную шею.
– Мы не сможем пожениться еще очень долго.
– Беатрис!
Она чуточку придвинулась и взглянула мне в лицо яркими, довольными глазами. Подставила губы для бесконечного поцелуя.
– Значит, все-таки выйдешь? Скажи «да»!
Она усмехнулась и обронила ближайшее к согласию слово из всех ей известных:
– Может быть.