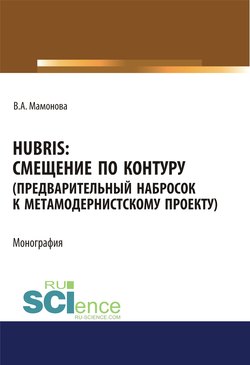Читать книгу Hubris. Смещение по контуру (предварительный набросок к метамодернистскому проекту) - В. А. Мамонова - Страница 3
Метамодернизм: онтология осцилляции
ОглавлениеНакопление критической суммы изменений в социокультурном пространстве приводит к качественно новому этапу развития, развивающемуся, как правило, постепенно. Напротив, скачкообразный тип изменений Томас Кун в работе “Структура научных революций” определял как “смена парадигм”, которая совершается, по мнению философа, в жестком режиме отмены предыдущей, ее революционного замещения новой. Куновская “hard”-версия парадигмальных смен в эпоху “soft”-технологий характеризует этос эпохи тяжелой промышленности, узкой профессиональной специализации и культа вещей, которым пришли на смену кластерная модель управления, конвергентность наук, культ информации. Новая реальность “перекомбинирует” алгоритмы социальных взаимодействий, исходя из той роли, какую играет в ней информационно-технологическая составляющая. Поэтому вслед за Дорис Бахманн-Медик понятию “парадигма” можно предпочесть эмоционально-нейтральное понятие, эвфемизм “поворот”, указывающий на ведущий дискурс современности. Культуролог отмечает: “Говорить о “повороте” можно лишь тогда, когда новый ракурс исследования “переходит” с предметного уровня новых областей исследования на уровень аналитических категорий и концепций, то есть когда он перестает просто фиксировать новые объекты познания, но сам становится средством и медиумом познания…Движение направлено в сторону методологического плюрализма, преодоления границ, эклектичного взаимообмена методами – а не к образованию парадигмы”. Итак, не парадигма, но поворот, и “что он нам несет”? Чтобы ответить на этот вопрос нужно определиться с общим фоном.
XXI век начался с двух амбициозных заявок – глобализации и информатизации общества. Первая вскоре выявила проблематичность полилога в пространстве, “заряженном” атомарными, локальными интересами. Наряду с усилением центростремительных, регионализационных, процессов и миграционных потоков, это привело к ренессансу национальных идеологий, традиционных ценностей, консерватизма. Что касается второй заявки, то ее реализацию отсрочить невозможно, как невозможно остановить технологический прогресс. Но смягчению его экстенсивного роста способствуют становление новых дискурсивных практик, культурных кодов, ему отвечающих, т. к. невозможно, как писал А. Эйнштейн, решить задачу, находясь на уровне ее постановки, нужно подняться на уровень выше. Уровень постановки задачи охарактеризовал Алан Кирби, назвав его псевдомодернизмом. А именно таков, по мнению философа, период, наметившийся в начале века, для которого показателен дисбаланс между изощренностью технологических средств и бедностью контента, ими передаваемого, а последний при этом, как правило, сводится к констатации действий, состояний, обстоятельств, простым вычислительным процедурам (например: “Я – в автобусе”)[2]. Напротив, смена ментальных матриц – процесс континуально растянутый с постоянным возвратным движением, рефлексивными процессами, сомнениями, отклонениями, осцилляцией. Данную ситуацию осцилляции, или маятника, между ментальными матрицами Модернизма и Постмодернизма замечательно описали голландские философы Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер в совместной работе “Заметки о Метамодернизме”[3], положившей начало дискурсу о Метамодернизме.
Метамодернизм заявил о себе как о преобладающей культурной логике современности, порожденной осцилляцией между энтузиазмом Модернизма и иронией Постмодернизма в конце ХХ в., но свое теоретическое наполнение получил в 2009-2010-х гг. Онтологическое положение Метамодернизма “между” Модернизмом и Постмодернизмом ориентировано не на поиск стабилизации, уравновешивания аксиологических основ, ментальных программ двух исторических эпистем, а на их раскачивание как способ преодоления антагонистических концептуальных содержаний. Пространство метаксиса (μεταξύ переводится как «между» – термин, который фигурирует в статьях Вермюлена и ван ден Аккера) атопично (ατοπος – странный). Однако помыслить атопос также трудно, как помыслить небытие. Философы настаивают на осмыслении атопоса как места и не-места одновременно[4]. Логическая слабость подобного утверждения заключается в выведении положения “не-места” как автономного, такого же независимого и законченного, как “место”, между тем как оно суть либо отношение, либо контекст. Но и в первом, и во втором случае не-место обнаруживается по отношению к месту. Поэтому постановка знака равенства между “местом” и “не-местом” оказывается преждевременной, хотя и передает распространенный в позднепостмодернистской гуманистике опыт адаптивного прочтения философии науки, конкретнее – квантовой механики. Стал расхожим мыслительный прием синхронизации дистанцированных друг от друга понятий, категорий с тем, чтобы преодолеть привычные логические ходы, штампы через парадоксальный способ прочтения проблемы – во-первых, а во-вторых, постмодерн проблематизировал последовательность как модель нарративного, иерархического построения. Кроме того, синхронизация и смешение различных содержаний, контентов – это прием функционирования гиперреального пространства, к которому обыватель уже привык, вне зависимости от того, относится ли он к поколению “цифровому от рождения” или осваивает цифромодернистские ландшафты в зрелом возрасте. Между тем, Метамодернизм в лице его теоретиков намерен реабилитировать смысл. Однако смысл – это последовательность. Даже если осцилляция – это овнешнение метаксиса, а метаксис атопичен, насколько атопос может рассматриваться как взаимодействие и напряжение между местом и не-местом? Примечательно при этом, что метаксис Метамодернизма, при исходных, заданных философами условиях, – положение “между” Модернизмом и Постмодернизмом. Сложность однозначной классификации атопоса также связана с коннотативным шлейфом, закрепившимся за понятием. Ролан Барт во “Фрагментах речи влюбленного” упоминал невозможность классификации, типизации любимого человека для любящей / любящего / любящих его: любимый человек обладает “непредвиденной самобытностью”, он атопичен (странен, ни на кого не похож, он – единственный во всем мире). Собственно, и атопия любимого человека сопротивляется рационализации, схватыванию, она не поддается анализу, рефлексии со стороны влюбленного. Барт в качестве примера отсылает к раскрытой Ницше атопичности Сократа для его учеников[5]. В этом смысле атопичность метаксиса Метамодернизма предстает как признание трудности его классификации и систематизации, однозначного толкования.
Эпистемологический план Метамодернизма в философских интуициях ван ден Аккера и Вермюлена приближен к кантовскому “негативному” идеализму, что отличает его и от Модернизма, и от Постмодернизма, отвечающих гегелевскому «позитивному» идеализму: “Кантовскую философию истории в конце концов так же можно наиболее подходящим образом обобщить как мышление «как если бы»…В действительности, Кант и сам применяет терминологию «как если бы», когда он пишет «каждый… человек, как если бы он следовал какой-то путеводной нити, движется к естественной, но для каждого неизвестной цели»…”[6]. Разворачивание эпистемологического потенциала “как если бы” остановить невозможно: он запускает алгоритм перебора операций для вывода максимально большего количества решений: “как если бы” в генной инженерии, “как если бы” в ИИ и т. д. Данная тенденция (наряду с виртуализацией общества) проблематизирует на уровне обыденного сознания представление о цельной единой реальности. Реальность становится реальностью чего-то, приобретая узкое, прикладное значение. В сущности, прогнозировать будущее социальных и культурных ландшафтов в ситуации постоянного наращения и обновления информации нерезультативно. Все мы проходим тест Роршаха, вглядываясь в контуры доминирующих на настоящий момент тенденций, “как если бы” Homo Ludens эволюционировал в Homo Deus, “как если бы” Homo Deus забылся в самоупоении, впав в hubris, или, напротив, осуществил ницшеановский проект…
Метамодернизм с неограниченной эпистемологической установкой “как если бы” и онтологией метаксиса включает в себя концептуальные схемы и содержания, матричные структуры тех эпистем, осцилляция, или раскачивание, между которыми задает ему жизненный импульс. Это означает, что в социальном и культурном планах метаксис инициирует появление композиций, составленных из гетерогенных по своей природе и генезису компонентов. В данном случае уместно обращение к новому подходу в онтологии общества, выдвинутому американским философом Мануэлем Деландой. Он развивается в русле спекулятивного реализма, признающего наличествование реальности, независимой от сознания. Деланда исходит из допущения существования автономных неиерархических социальных структур, основанных на динамических отношениях, – как то государства, правительства, города, различные социальные группы и т. д., где часть равноценна целому, но не повторяет его, – которые формируют ассамбляжи. В свою очередь, элемент одного ассамбляжа может быть включен в конструкцию другого, а тот – быть составной частью структуры первого ассамбляжа. Подобный тип взаимосвязей отражает отношения интериорности между компонентами ассамбляжей и между самими ассамбляжами. Подобный посыл Деланды также направлен на упразднение гегелевских тотальностей, но у него был великий предшественник. Безусловно, в самой идее деиерархических динамических отношений, предполагающих композиционную “подвижность” ассамбляжей, у Деланды прочитывается оммаж философии Жиля Делеза: “Теория ассамбляжей и процессов, которые создали и стабилизировали свои исторические идентичности, была создана философом Жилем Делезом в последние десятилетия ХХ века. Предполагалось, что эта теория приложима к широкому спектру целостностей, сконструированных из гетерогенных частей. Различные сущности – от атомов до биологических организмов, видов и экосистем – могут рассматриваться как ассамбляжи, то есть продукты исторических процессов, и такое рассмотрение может оказаться продуктивным. Разумеется, что за термином “исторический” стоит не только история человечества, но и космогоническая, и эволюционная теории. Теория ассамбляжей может применяться к социальным сущностям, но сам факт того, что она преодолевает разделение природа – культура, свидетельствует о состоятельности этой теории именно как реалистической”[7]. Ассамбляжи Деланды воспроизводят в иных концептуальных координатах уилберовское философское понятие “холон” как нечто одновременно автономное и являющее частью иерархии – холархии. Согласно этой точки зрения, любая система может рассматриваться в качестве холона (например, атом, клетка, организм, социум, вселенная и т. д.), включенного в еще более сложную сеть взаимодействий, но уже в качестве элемента. Близки к деландовским построениям экспериментальные метафизические ландшафты Бруно Латура, уравнивающего в правах при созидании “общего мира” людей с нечеловеческими акторами. Призыв философа пересмотреть ключевые концепты античной философии такие, как “ойкос”, “логос”, “фюсис”, “полис” с тем, чтобы подвергнуть их критике, и наконец покинуть платоновскую пещеру, сам по себе радикален. Малоизвестный конец платоновского мифа о пещере, когда одному из пленников (и это – философ, конечно) все-таки удается покинуть ее пределы и увидеть неискаженный мир, а вернувшись, столкнуться с непониманием других узников, наталкивает на подсказанные самим Латуром размышления о судьбе его концепции в философии, если бы ее появление не было бы столь своевременно. “Замените повсюду единственное число множественным, природу на природы…начиная с мифа о Пещере, именно единство природы является ее главным политическим достоинством, потому что только это объединение, это упорядочивание, может конкурировать с иной формой объединения, компоновки, самой что ни на есть традиционной и издревле называемой той самой политикой. В этом споре между политикой и природой, как в старой тяжбе, что на протяжении всех Средних веков противопоставляла Папу Императору, можно найти две лояльности по отношению к двум одинаково легитимным типам тотального, между которыми разрывалась тогда совесть христианина. Если сегодня мы к месту и не к месту используем понятие мультикультурализма, то понятие мультинатурализма все еще кажется нам шокирующим и лишенным всякого смысла”[8]. Следующий шаг – признание плюральности составляющих данность основ. Впрочем, festina lente. Разработка М. Деландой “новой философии общества” (а так называется и его монография), а точнее выявление, обнаружение тех закономерных для Метамодернизма социальных процессов, которые идут в обществах, вступивших в фазу информатизации, их взаимоотношения с другими целостностями, оказываются спроецированными на экран культуры. Здесь в фазе роста пребывает такое явление, которое Николя Буррио очень точно назвал “постпродукцией”. Технический термин “постпродукция” он употребил для анализа процедур комбинирования, перепроизводства, коллажности, пересборки ранее созданной символической продукции в искусстве второй половины ХХ века. По его мнению, в постпродукции нивелируется разрыв между производством и потреблением[9]. Цитата, пастиш, реминисценция, след и т. д. стали привычными приемами и маркерами постмодернистской художественной и поэтических практик. Казалось, что технологический сдвиг сподвигнет к освоению terra incognita, на деле – спустя четверть века после цифровой революции мы, оперируя изощренными гаджетами, в сфере мысли по-прежнему производим постпродукцию. Поэтому технология ее создания сводится к апроприации, т. е. к выбору из уже данного и исторически апробированного материала отдельных фрагментов, композиционных схем, методических ракурсов, сценарных ходов, их символическое перепроизводство и встраивание в другие контексты. Альтернативный взгляд Буррио, таким образом, сводится к следующему: “Переписать модернизм – вот историческая задача нашего времени: не начать с нуля, не закопаться в историческом достоянии, а заняться инвентаризацией и отбором, переработкой и перезагрузкой”[10]. В этом смысле альтермодернизм философа “шествует”, повторяет концептуальные маршруты постмодерна. Однако на “инвентаризацию” у нас остается не так много времени: разрыв между этосом эпохи, фетишизирующей следы прошлого, исторические травмы, теоретические конструкты минувшего, и ее технологической составляющей, перманентно обновляющейся, возрастает. Мы можем ментально не успеть за изменениями цифровой эпохи, экзистенциально “зависнув” в состоянии ожидания (Годо или кого-то еще?), глубокой тишины, или, напротив, изнашивая и упрощая себя в избыточной суетливости, синхронной включенности в различные контексты. К сожалению, когнитивистика, артикулируя достижения в сфере нейронаук, пробуждает и держит интерес к своим исследовательским полям, но мало способствует формированию общего ментального фона эпохи. Хотя Д. Бахманн-Медик рассматривает (нейро)биологический поворот в качестве прогностически наиболее вероятного, чей потенциал уже раскрывается[11]… Но фактические констатации естественных наук не выстраивают духовно-этической перспективы для развития: человек не сводится к корпусу его биометрических данных. На самом деле нам нужна не инвентаризация, а реинжиниринг.
В 2011 г. культуролог Люк Тернер опубликовал “Манифест Метамодернизма”, а спустя четыре года резюмировал свои идеи в статье “Метамодернизм: краткое введение”, где он, в частности, утверждает, что “…дискурс метамодернизма имеет скорее описательный, нежели предписывающий характер”[12]. Хотя его оптика находится только в стадии формирования, поэтому описанию и, соответственно, интерпретации, подвергаются культурные формы, отвечающие его этосу. Между тем, география метамодернистского дискурса уже достаточно обширна, охватывает различные исследовательские поля – от философии и культурологии до искусствоведения и киноведения. Она масштабно освещена в разных бумажных и интернет-журналах: среди них датский «Metamoderna» под редакцией политического философа Хэнзи Фрайнакта, российский «Metamodern» Артемия Гусева, «Journal of Aesthetics & Culture», на страницах которого впервые прозвучала концепция Метамодернизма Тимотеуса Вермюлена и Робина ван ден Аккера; также небезынтересен журнал голландских теоретиков «Notes on Metamodernism», где публикуют свои материалы Люк Тернер, Элисон Гиббонс и другие[13]. Параллельно со становлением философско- эстетических основ Метамодернизма, осуществляется выявление и систематизация схожих тенденций в искусстве и кинематографе[14]. В данном случае нарратив Метамодернизма по своей стратегии напоминает больше Модернизм, чем иронически настроенный по отношению к любым наррациям Постмодернизм.
Итак, основной пафос Метамодернизма – самостийное становление, самоорганизация новых порядков более сложных уровней, включающих в себя программы и композиции социальных и культурных практик, ранее существовавших и исторически апробированных (Хэнзи Фрайнакт сформулировал мантру Метамодернизма следующим образом: “За деконструкцией должна следовать реконструкция”), но при этом архитектоника новых иерархий видится теоретикам Метамодернизма подвижной. Подвижность во многом задается и ведущими тенденциями метамодерна – перформантизмом (причем в редакции Рауля Эшельмана, рассматривавшего перформантизм как “преднамеренный самообман”, стремление к созданию целостной идентичности, чья целостность двусмысленна) и неоромантизмом (в ракурсе неоромантического переопределения, вторичной процедуры означивания банального как важного, обычного как необычного и т. д.). Кажущееся противоречие снимается холархическим подходом, вербализированным Хэнзи Фрайнактом, оригинально истолковавшем идеи Жиля Делеза и Кена Уилбера: “Подход метамодернизма можно причислить к холархическим, указывающим на наличие структуры там, где все кажется хаотичным. Хаотичность структурирована по линиям сложности; мы видим структуры, которые остаются частями целого и при этом сохраняют автономию”[15]. Осцилляция Метамодернизма, соответственно, – это не столько поиск баланса между Модернизмом и Постмодернизмом, сколько создание условий для пересборки концептов, переопределения базовых эпистемологических категорий (субъект / объект и т. д.), через которые человек себя идентифицирует и выстраивает свои поведенческие сценарии в условиях перманентной подвижности контекстов, заданных усложнением техносферы культуры.
2
Kirby, A. The death of Postmodernism and beyond // https://philosophynow.org/issues/58/The_Death_of_Postmodernism_And_Beyond (дата обращения 15.07.2018).
3
Vermeulen, T., Akker, R. van den Notes on metamodernism // Journal of Aesthetics & Culture. – 2010. – Vol. 2. – P. 1–14. См. Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма / Р. ван ден Аккер. – М.: РИПОЛ классик, 2019. – 494 с.
4
Ibid.– P. 12.
5
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – М.: Ad Marginem, 1999. – С. 93–95.
6
Vermeulen, T., Akker, R. van den Ibid. – P. 5.
7
Деланда М. Новая философия общества: Теория ассамбляжей и социальная сложность. Пермь: Гиле Пресс. 2018. – С. 10.
8
Латур Б. Политики природы. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. – С. 39–40.
9
Буррио Н. Постпродукция / Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – С. 118.
10
Там же. – С. 203.
11
См. Бахманн-Медик Д. Указ. Соч.
12
Тернер Л. Метамодернизм: краткое введение // http://metamodernizm.ru (дата обращения 12.07.2018).
13
См. Берукашвили Л. Г. Все о метамодернизме. All about metamodernism: монография / Л.Г. Берукашвили. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – 74 с.
14
Молодцов Е. От иронии – к искренности, или от постмодернизма – к метамодернизму // https://emolodtsov.com/metamodern (дата обращения 27.02.2019).
15
Freinacht, H. You’re not metamodern before you understand this. Part 2: Proto-Synthesis // http://metamoderna.org/youre-not-metamodern-before-you-understand-this-part-2-proto-synthesis2?lang=en (дата обращения 25.07.2018).