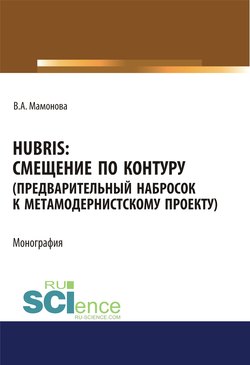Читать книгу Hubris. Смещение по контуру (предварительный набросок к метамодернистскому проекту) - В. А. Мамонова - Страница 6
Машина субъективации в культуре
ОглавлениеДежавю исторического месседжа обнаруживает не столько сходство ситуаций и обстоятельств, удаленных друг от друга временным коридором, сколько сходство в интенциональности, направленности сознания большинства (что характеризует его уже не как сумму индивидов, но как совокупный субъект) на определенный тип считывания социокультурного контекста, а, следовательно, и моделей взаимодействия с ним. Действительно, глобализация, постглобализм, информатизация повседневного мира потребовали от локальных систем оперативной реакции на изменения и повышение их адаптивных способностей к новому миропорядку. Но в стремлении упорядочить хаотическое настоящее «растекание по старым следам» стало типичной реакцией на бифуркационные процессы, что в ряде случаев привело к реконструкции исторически опробованных сценариев развития, что по сути – ментальные ловушки: прямых исторических цитат, событийных переносов быть не может. Реконструкция не восполняет недостаток новых текстов, но, подобно запаху пирожного «Мадлен» из известного прустовского романа, переносит в иное пространство, пробуждая определенные зоны памяти, связанные с минувшим переживания и ассоциации. Реконструкция интертекстуальна. И в этот момент Диоген из Синопы «среди белого дня …зажег фонарь и стал бродить повсюду. Его спрашивали, зачем. Он отвечал: «Человека ищу»[53]. Образ Диогена Синопского с зажженным фонарем как нельзя более соответствует ситуации, когда при смене культурных парадигм, поворотов, картин мира и культурных моделей возникает необходимость в новом образе носителя, актора культуры, шире – субъекта. Однако, «субъект» как исторически обусловленная категория, зависимая от типа культуры, претерпела различные трансформации: от образа совершенного человека, освещающего этос Античности, к образу нового человека, ознаменовавшего формирование этоса христианского мира, а позднее – остова европейского мира, прочитавшего в новизне и прогресс, и рост; поэтому эти образы как типы социальности противоположны друг другу[54]. Тем не менее, и совершенный человек, и новый человек созидают пространство культурных смыслов, отличных от прежних. Только, что определяет параметры и состав нового типа социальности? Возможно ли продуцировать качественно иной тип социальности и языка культуры, сохраняя ту же ментальную матрицу?
История философской мысли, особенно начиная с Нового времени, представляет собой богатый музей разнообразных машин субъективации, из которого становится очевидным, что типология субъекта обусловлена и транслирует историческую и культурную конкретность. Начиная от картезианского субъекта, в котором разводятся res cogitans и res extensa, дуализм мыслящего и материального, протяженного, оказывается объяснительной моделью, заполняющей лакуны в разрешении проблемы «душа / тело», или «сознание / мозг». Но вместе с тем, будучи экстраполирована в мир повседневности, декартовская модель субъекта легитимировала дихотомию как тотальность. Рационализм вызвал к жизни техницизм и циничное отношение к res extensa, что, в итоге, привело к экологическим проблемам, этическим вопросам, поднимаемым в связи с развитием генной инженерии. И вместе с тем, было бы большим преувеличением видеть в декартовской концепции абсолютную волю философа, не зависящую от общекультурного контекста или ранее сложившейся теологической и философской традиции, идущей от Августина Блаженного. Однако, декартовский субъект, подчиняющий себе природное, материальное, суть модель машины субъективации, ставшая для определенного типа культуры кодом, вскрывающим логику и механизм ее функционирования, ее аксиосферу, диапазон сознательных установок и эмоциональных реакций ее носителей. Иная модель субъекта у Г. В. Лейбница, ставившего в вину Декарту разведение «вещи мыслящей» и «вещи протяженной»: «Он (Декарт) не всегда отличал достоверное от недостоверного и поэтому ошибочно усмотрел природу телесной субстанции в протяженности и не имел здравого представления о союзе души и тела, ближайшей причиной чего было непонимание общей природы субстанции» [55]. Именно монада как субстанция-субъект и фигурирует у Лейбница. Монада – моно- суть простая субстанция, неделимая, не имеющая частей, а, соответственно, протяженности, входящая в состав более сложных. Лейбницевские монады как «атомы природы», «элементы вещей» отчасти вызывают в памяти атомизм Демокрита, но только отчасти. Полное разъяснение представлено самим философом: «…один только Бог есть первичное Единство, или изначальная простая субстанция. Все монады, сотворенные или производные, составляют Его создания и рождаются, так сказать, из беспрерывных, от момента до момента, излучений Божества, ограниченных воспринимающей способностью твари, ибо для последней существенно быть ограниченною» [56]. Субстанция-субъект Лейбница, таким образом, в большей степени близка к гегелевскому субъекту, чем к декартовскому или, тем более, к демокритовскому атомизму. В «Феноменологии духа» Гегеля исторический процесс разворачивается как процесс воплощения духа в формах, им порожденных. Этим он снимает знаковую для эпистемологии дихотомию субъект-объект, включенных у философа в эпическую картину метаморфоз Духа, как, впрочем, нивелирует неразрешимый у И. Канта разрыв между ноуменальным и феноменальными мирами. «Он (дух) есть в себе движение, которое есть познавание, превращение указанного в-себе- бытия в для-себя-бытие, субстанции – в субъект, предмета сознания – в предмет самосознания, т. е. в предмет в такой же мере снятый, или в понятие. Это движение есть возвращающийся в себя круг, который свое начало предполагает и только в конце его достигает» [57]. В целом, в «Философии духа» в рамках ЭНФ Гегель последовательно дифференцирует субъективный дух, под которым понимает сознающего себя человека, индивида, объективный дух, выражающий себя в историческом движении народов и государств, и, наконец, абсолютный дух, находящий свое воплощение в религии, искусстве и философии; все они суть реализация абсолютной логической идеи, которая и есть Высший Субъект. Т. е. индивидуальный и совокупный субъекты суть частные воплощения Духа. Важно, тем не менее, другое: и у Лейбница, и у Гегеля мы сталкиваемся с масштабированием категории «субъект», что предполагает разведение картезианского субъекта и субъекта исторического процесса Гегеля. Массы не просто двинулись, но и выступили силой исторического процесса. Уже трансцендентальный субъект И. Канта являет определенный теоретический конструкт идеального и должного, пытающийся найти равновесие между единичным и совокупным деятелем культуры, хотя бы в силу того, что в основе индивидуального «Я», предполагается, наличествует трансцендентальный субъект, который вместе с тем покрывает его границы, являясь сверхсознанием, представленным в индивидуальном. Кроме того, Кант обращает внимание, с чем собственно и связан его переворот в философии, на предзаданность, обусловленность в толковании реалий, исходя из антропологического ракурса их считывания, которая своего апогея достигает в философии И. Г. Фихте. В философии Фихте субъект не пребывает в поиске и осознании своих границ, он не о-граничивается, но, напротив, проецирует себя вовне, становящееся его самоузнаванием; границы между Я и Не-Я подвижны. Вместе с тем, Фихте небезынтересно решает проблему корреляции, взаимодействия Я с другими Я: множество самоопределяющихся субъектов у него воплощают Абсолютного Субъекта, соотносимого с родом, народом, нацией. Опять перед нами пример масштабирования субъекта. Другая традиция в философии, представленная, в частности, эмпиризмом Ф. Бэкона, Дж. Локка, утверждает первопричинность истинного знания в чувственном опыте. Ф. Бэкон в «Новом Органоне» отметил, что на пути к истинному познанию стоят «пустейшие идолы»: «идолы рода», «идолы пещеры», «идолы рынка», «идолы театра»: «Ни в логике, ни в физике в понятиях нет ничего здравого. «Субстанция», «качество», «действие», «страдание», даже «бытие» не являются хорошими понятиями. …Они (идолы рода) происходят или из единообразия субстанции человеческого духа, или из его предвзятости, или из его ограниченности, или из неустанного его движения, или из внушения страстей, или из неспособности чувств, или из способа восприятия. Идолы пещеры происходят из присущих каждому свойств как души, так и тела, а также из воспитания, из привычек и случайностей. …Но тягостнее всех идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. …Идолы театра не врожденны и не проникают в разум тайно, а открыто передаются и воспринимаются из вымышленных теорий и из превратных законов доказательств»[58]
53
Диоген Синопский Гномы и апофтегмы, собранные из разных источников. / Антология кинизма: Философия неприятия и протеста. – М.: ТЕРРА, 1996. – С. 130.
54
Иванченко Г. В. Совершенство в искусстве и в жизни. – М.: КомКнига, 2007. – С. 65.
55
Лейбниц Г.-В. Монадология. / Лейбниц Г.-В. Сочинения в 4-х тт. Т. 1. – М.: Мысль, 1982. – С. 245.
56
Там же. – С. 421.
57
Гегель Г. Феноменология духа. / Гегель Г. Феноменология духа. Философия истории. – М.: ЭКСМО, 2007. – С. 466.
58
Бэкон Ф. Новый Органон. / Бэкон Ф. Собрание сочинений в 2-х тт. Т. 2. – М.: Мысль, 1978. – С. 14, 23, 25, 26.