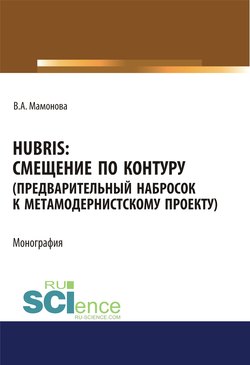Читать книгу Hubris. Смещение по контуру (предварительный набросок к метамодернистскому проекту) - В. А. Мамонова - Страница 5
Приключение субъекта в инфосфере
ОглавлениеОстановка в пути – тренировка зрения. Для двух беккетовских персонажей, Эстрагона и Владимира, жизнь как проходящий мимо поток образов, впечатлений изредка прерывается мысленным возвращением к цели их пребывания в данной точке пространства и времени. А цель – встреча с Годо. Как всякий отсутствующий в перцептивной реальности объект, Годо непознаваем. И непознаваемость определяет жизненный мир противопоставленным неявному: это – линия различения, которую разум желает преодолеть, что позволяет ему самому, будучи в жизненном потоке, осознавая свою историчность, стремиться ее превозмочь. Хотя, зачем нужен «выход за пределы», иное, если Годо как Другой, возможно, никак не обнаружит себя, неужели лишь для того, чтобы преисполниться чувством собственной исключительности? Но беккетовских персонажей подобный круг вопросов не занимает вовсе, и поэтому их положение абсурдно. В случае, если бы их обращение было направлено на объект, явившись внутренним движением, выбор одной из небезызвестных этических дихотомий указал бы Другого как перспективу. Однако произошло обратное: укорачивание перспективы сужает поле деятельности в настоящем.
От общества потребления – к «умной толпе». «Массы двинулись», – констатировал Г. В. Ф. Гегель. Пребывая или в статичной консервации толпы, или в хаотичной динамике масс, большинство заявило о себе как о ведущем акторе исторического процесса, сместив слепой рок, Божественное провидение, рационалистические и просвещенческие идеалы, – большинство оказалось авангардом. Но может ли большинство идентифицировать себя с некой целостностью с закрепленным корпусом признаков, есть ли у большинства границы, что их обнаруживает?
Историческая смена форм техногенной среды от локальных неустойчивых технотопов аграрных сообществ до технической реальности позднего Постмодернизма и формирующейся ситуации Метамодернизма выявила изменение функциональных характеристик техносферы. В конце ХХ в. – начале XXI в. техносфера, включая в себя совокупность объектов и процессов, развивается самостийно, самоорганизуется и требует высоких адаптивных способностей уже от человека. Последний фигурирует в историческом поле в страдательном залоге, начиная с эпохи индустриализации, т. е. с периода роста фаустовской культуры. И в качестве основной предпосылки этой тенденции можно назвать его упрощенное прочтение через разум, экзистенцию, подсознательные импульсы: иначе – потеря целостного восприятия субъекта предшествовала децентрированной оптике преемника Модернизма. Самое простое решение в данном случае перенести внимание с субъекта на объект, повторив вслед за Г. Саймоном: «…кажущаяся сложность поведения человека во времени, в основном, отражает сложность внешней среды, в которой он живет»[26], т. е. с позиции автора, человек представляет собой адаптивную систему, и цели его деятельности определяют взаимосвязь между его внутренней и внешней средами, следовательно, его мотивы, цели, ценностные установки всецело детерминированы внешней средой и передают ее особенности. Однако, предполагается, что следующим шагом явится преображение этой среды, акт творческий, инициационный, определяющий человека как субъекта культуры, полагающего цели, ответственного за поступки, осознающего себя. Отчего следующий шаг в Постмодернизме оказался настолько непосильным, что фукианская метафора «смерти субъекта» стала больше, чем только оборотом речи?
Точки невозврата. Точки невозврата – бифуркационные развилки, после прохождения которых система, изменившись качественно, не способна, не может вернуться к исходному состоянию. Точки невозврата обнаруживаются и в истории культуры, свидетельствуя, что, наряду с самовоспроизводящимися матрицами социокультурной памяти, существуют программы, устарение или отказ от которых влечет глубокое изменение всего культурного кода. Одной из таких точек невозврата является выделенное А. Б. Хюбнером изменение парадигмы от ГЕТЕРОНОМИИ к автономии, от ДРУГОГО к я[27]. Данная смена парадигм для европейской культуры явилась знаменательной, т. к., по мнению философа, затронула одну из ее основ – проблему субъекта культуры: последний, освещенный Просвещением, перестал рассматривать себя с точки зрения ГЕТЕРОНА, ДРУГОГО (а также социальных институтов, норм и т. д., переводящих и утверждающих великие Смыслы), а Другого стал рассматривать с точки зрения себя, своего, человеческого, которое слишком… Прямая перспектива в истории европейской культуры снимается: гетерономно определяемый Смысл жизни, возвышающий индивидуальное до всеобщего и вневременного, упраздняется автономно установленным смыслом в жизни. Потребность в трансгрессии, в преодолении себя, в постижении Другого, истока ушла на второй план, что обозначило сокращение ракурса видения и сокращение предпосылок для рефлексии, самопознания, определения себя по отношению к Другому, иначе – очертания субъекта стали расплываться. Перманентная генерация смыслов в жизни (прогресс, эволюция, глобализация, информатизация), компенсирующих отсутствие Смысла, а также поиск Другого оказываются необходимыми условиями удержания целостности культуры и субъекта. Нужно отметить, что апеллирование к смыслу в жизни обращает внимание на установление и соблюдение прав человека, удовлетворение его потребностей – снимает ряд практических задач, но одновременно блокирует причины, предпосылки, ради которых, во имя которых человек был становящимся. Для ставших основная форма существования – потребление. Потребление компенсирует и дефицит Смысла, и «недостаточность себя», и инертность большинства, замкнутого на настоящем. Здесь происходит своеобразный аксиологический сдвиг, смена способов существования человека в мире: от «быть» к «иметь», если прибегать к категориальному аппарату Э. Фромма, от Эроса – к Танатосу, в терминологии З. Фрейда. Суть в том, что вещность начинает характеризоваться как показатель активности жизнетворчества: обладание как самоцель, но не средство для самореализации, что закономерно проецируется субъектом (уже не действия, а накопления, неважно чего: предметов, тел, проблем) на восприятие своего внутреннего пространства в движении ухода, дистанцирования от него: «Когда я говорю «у меня есть проблема» вместо «я обеспокоен», субъективный опыт как бы исключается: «я» как субъект переживания отодвигается на задний план, а на авансцену выдвигается объект обладания. Личное «я» заменено безличным присутствием проблемы. … Иными словами, я сам себя превратил в «проблему», и вот теперь мое творение владеет мною. Такой способ овладения обнаруживает скрытую завуалированную форму отчуждения»[28]. И именно такое большинство, растворяющее в себе субъект-объектную реальность, Ж. Бодрийяр определил как молчаливое, индифферентность которого обратно пропорциональна активности медиальной сферы, а Дж. Ваттимо – как медиальное (прозрачное) общество Постмодернизма. Для человека массы медиасфера оказывается и генератором смыслов (или псевдосмыслов), и Другим, через и посредством которого снимается экзистенциальный груз ответственности. Именно медиальная сфера начинает занимать мезоуровень между дивидом и миром его окружающим, обнаруживая доминанту сконструированного медиального желаемого Другого перед бесконечно удаляющимся реальным конфликтным Другим. И это – еще одна точка невозврата.
Так как единственная реальность после отхода от ГЕТЕРОНОМИИ к автономии находится «здесь и сейчас», трансцендентное оказывается выстроенным не по вертикали, а по горизонтали, что не означает отмену иерархии, но предполагает смену точек зрения. Отныне иное, исток усматривают в реальном Другом (в другом этносе, культуре, субкультуре и т. д.), дистанцированном темпорально, исторически или пространственно, географически. В первом случае распредмечивание смыслов, следов присутствия Другого в артефактах культуры становится способом самопознания, выстраивающим демаркационную линию между «Мы – Они». Во втором случае непосредственный контакт с Другим («Я – Другой»), являясь более болезненным, так как исключает приписывания смыслов и полагает предел в интерпретации и понимании Другого (Другой – участник взаимодействия), становится, тем не менее, исторически более действенным способом самоопределения. Западноевропейская культура едва ли не с эпохи Возрождения черпала иное, Смысл, исток в раскрытии, обнаружении реального Другого, отношение к которому постоянно менялось, но тем не менее… И. Кант обосновал одно из положений «категорического императива» как опыт восприятия Другого как цели, а не средства. Ж.-Л. Нанси определил смысл в обращении, связанном онтологическим условием со-бытия, бытия-вместе, предполагающим единичное множественное истоков. На таком пересечении истоков, по мнению философа, выстраивается бытие. Познание и раскрытие истока Другого оказывается сущностно необходимой предпосылкой становления субъекта. Согласно данной позиции, множественность истоков «собирает» мир, формирующий своего деятеля – субъекта. Со-бытие является единственно возможным смыслом: «мы не имеем больше смысла потому, что мы сами являемся смыслом, целиком и полностью», – и далее, – «смысла нет, если он не разделен (с другими), и не потому, что должно быть одно значение, первое или последнее, которое являлось бы общим для всех живых существ, а потому, что сам по себе смысл является разделением бытия. …бытие может быть, лишь когда это бытие-одних-вместе-с-другими, лишь циркулируя во вместе- с и в качестве вместе-с этого единично множественного сосуществования»[29]. М. Рьюз и Л. О. Уилсон, примиряя традиции дарвинизма и этики, пришли к умозаключению, объясняющему самоценность Другого как проявление вторичных эпигенетических правил: «Короче, мы должны быть справедливыми и признавать права и целостность личности. Нетрудно видеть, что эти теории перекликаются достаточно явно с нашими эволюционистскими взглядами, и у нас есть основание утверждать, что утилитаристский «принцип наибольшего счастья» и кантовский «категорический императив» принимают форму вторичных эпигенетических правил. Мы хотим сказать, что мы, люди, осознаем эти моральные принципы в качестве части нашей врожденной биологической структуры. Несомненно, эти принципы влияют на наше мышление и поведение»[30]. Итак, начиная с Модерна, диалог становится формой существования, условием развития как для коллективного субъекта (нации, культуры), так и для человека как субъекта культуры. Такой диалог, бесспорно, всегда был опосредован технически, способами передачи информации: в печатной культуре – книгой, в аудиовизульной – экраном, а, следовательно, ситуация коррекции Другого, возможно, желаемого Другого, имела место быть и в прошлом. Однако средства передачи информации являлись технической, инструментальной «упаковкой» сообщения. С появлением первого спутника и массовым распространением аудиовизуальных каналов передачи информации средство само стало сообщением (как заметил М. Маклюэн): это означает, что после «отстранения» реального Другого заполнением образовавшегося смыслового вакуума занимается инфосфера, самоорганизующаяся благодаря сращению СМИ и СМК. Проекция ее деятельности на живую реальность – апатия масс, вызванная переизбытком информации, как полагал Ж. Липовецки в книге «Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме». Однако то, что рассматривается как переизбыток информации, переизбытком не является: избыточен поток при избытке каналов передачи, гаджетов, но в различиях, формирующих информацию (вспомнить, к примеру, известное бейтсоновское определение информации как получения сведений о различии), напротив, наблюдается недостаток. Недостаточность Другого в европейской культуре – недостаточность себя. Между медиальным Другим и пассивным дивидом, таким образом, выстраивается взаимодействие, носящее односторонний, монологичный характер, не создающее условий для формирования субъективной реальности. Медиальный Другой манипулирует и подчиняет субъекта. Функционалистское отношение к субъекту здесь вступает в новую фазу. Принуждение к диалогу медиальный Другой выстраивает через насилие аудиовизуального потока, подавляющего критику рацио. Субъект оказывается прикован к полю перманентно сменяющихся образов, он вновь входит в состояние до- рефлексивной фиксации производства данности, что характерно для наивного сознания представителя традиционных доиндустриальных культур. Иначе, чтобы просеять, отличить информацию от шума, а далее – информацию перевести в знание, потом из знания, отрефлексированного и «пропущенного через себя», извлечь опыт, он должен иметь «пространство-время тишины»: поток должен останавливаться. Но в действительности этого не происходит, более того, темпы нарастают, типы смен производства данности требуют развития адаптивных способностей от субъекта, интуитивно встраивающего в поле изменчивости; сознательная тактика локализации и дистанцирования от аудиовизуального потока приводит индивида к маргинализации его положения в социуме. Д. Кампер, размышляя о прессинге, давлении визуального образа в постмодернистской культуре, принуждающего субъекта к статуарной неподвижности (или седированию – в терминологии Д. Кампера), заключал: «…седирование остается абсолютно амбивалентным и подразумевает, что человеческое тело переходит от прямостояния к сидению и в этой сидячей позе надолго успокаивается, калькулируя преходящие состояния. Седирование далее значит, что необходимы сильные средства, чтобы перенести необходимость обязанности сидеть (Айкхофф). В цивилизации прогресса насилие манифестируется себя во взгляде»[31]. Ситуация несколько изменяется с приходом цифромодернизма, актуализирующего активность потребителя информации, его «включенность» в информационный обмен, автономность (и сопутствующую ей анонимность). Н. М. Смирнова, анализируя характер виртуального общения, в частности, приходит к следующему выводу: «В виртуальном общении Другой (партнер по «чату») существует лишь как «симулякр» (Ж. Бодрийяр), сообщение, система знаков. Он мне лично («телесно») не знаком, да, вероятно, и не будет. …А может быть, он и вовсе не существует, и мне отвечает усовершенствованный mail- demon? …Но это лишь фрагмент более общей проблемы того, каким образом конституируется смысл Другого в виртуальном общении. Ведь аналогизирующей проекции моей телесности здесь быть не может»[32]. Тем не менее, гиперреальный Другой таковым и остается; преображается только форма контакта при глобальном расширении вовлеченных в инфосферу акторов взаимодействия. Большинство атомизируется под влиянием заметно возрастающей роли технической составляющей в жизни отдельного человека, не теряя при этом сущностных характеристик большинства, т. е. функционируя как квазиразложимая система. Переход к «умной толпе», далее – к множеству выявляет процесс трансформации массы, анализ которого дал Р. Гвардини в статье «Конец нового времени». По мнению исследователя, вместе с техническим прогрессом оформляется иная структура большинства, где активность субъекта оказывается критичной. «Масса в сегодняшнем смысле слова – нечто иное. Это не множество неразвитых, но способных к развитию отдельных существ; она с самого начала подчинена другой структуре: нормирующему закону, образцом для которого служит функционирование машины. Таковы даже самые высокоразвитые индивиды массы. …масса в том смысле, каким мы наделяем это слово, не есть проявление упадка и разложения, как, скажем, чернь Древнего Рима; это историческая форма человека, которая может полностью раскрыться как в бытии, так и в творчестве, однако, раскрытие ее должно определяться не мерками нового времени, а критериями, отвечающими ее собственной сущности. Применительно к этим людям нельзя больше говорить о личности и субъективности в прежнем смысле»[33]. Образ субъекта века рационализма как преобразователя в технизированном медиальном мире становится излишним, ретроспективным, требующим переосмысления и уточнения. И это – третья точка невозврата, постулирующая неравновесность внешнего и внутреннего расширения человека.
Наконец, четвертая точка невозврата, которую мы переживаем в ситуации Метамодернизма, – это сведение человека к корпусу его биометрических данных; это – уровень циничной натурализации, при котором организм = человек прочитывается как алгоритм. Ю. Н. Харари в качестве примера новой реальности приводит движение “Quantified Self”, жизненное credo представителей которого укладывается в формулу “Самопознание через числа”. Но своей вершины четвертая точка невозврата достигает даже не в упрощении человека, но в усиливающейся тенденции разведения интеллекта и сознания: “Однако мы стоим буквально на пороге грандиозной революции, в результате которой люди рискуют лишиться своей экономической ценности. Происходит это из-за того, что интеллект отделяется от сознания. Армии и корпорации не в состоянии функционировать без интеллекта, но им не нужны сознание и субъективные переживания”[34]. Будет ли ИИ “взламывать” или корректировать наши алгоритмы? Последнее, пожалуй, уже происходит.
Историчность субъекта. Историчность субъекта подразумевает очерченные во времени границы категории в истории западноевропейской культуры. Принято полагать, что субъект определяется через установление различения внутреннего и внешнего, что позволяет преобразовывать внешнее: целеполагающая деятельность является основанием для формирования субъекта, а, значит, субъект как рефлексирующая система (т. е. сверх-, метасистема) не только осознает себя, свои мотивы, цели и задачи, но и выбирает свою дальнейшую модель поведения и проектирует план действий. Он – деятель мира культуры, его окружающего и формирующего, и себя (в первую очередь) уже в силу того, что ответственен за свое индивидуальное начало: становление, разворачивание или, напротив, сворачивание программы личностного развития. Такова исторически апробированная модель субъекта. При этом творческая активность, свобода (свобода – необходимое условие творчества, как отмечал Н. Бердяев) и ответственность являются основными характеристиками субъекта. А, следовательно, человек не рождается субъектом, творцом истории своей жизни, но им становится в процессе формирования психики, и заметную роль здесь играют и культура, и общение, и социум. Примечателен, однако, такой момент: и в истории философии, и в истории психологии возникает понимание детерминированности, взаимообусловленности степени воздействия объекта на субъект системой внутренних условий субъекта, передающих виды и уровни его активности.
В противоречивой истории философской мысли В. А. Конев выделил четыре основных парадигмы философствования: “on he on”, “cogito”, “existenz” и “affirmo”[35]. Разумеется, как коды типов мышления, передающих этос эпохи, специфику выстраивания субъект-объектных отношений, не следует рассматривать данные парадигмы в хронологической последовательности: ситуации исторических повторов той или иной эпистемы, обусловленные универсалиями культуры, равно как и сопряжение нескольких в пределах одного историко-культурного периода (тем не менее, с читаемой доминантой) имели место быть на протяжении всей истории западноевропейской культуры. Очевиден лишь тот факт, что различные тексты прочтения субъекта характеризуют, какой тип субъекта (а также субъективной реальности) оказывался востребованным в данный исторический момент. С точки зрения философа, парадигме “on he on”, которая может быть выражена парменидовским тезисом «бытие есть, небытия нет», соответствует и философская традиция Античности, Средних веков, отчасти XIX в., проявляясь, прежде всего, в гегелевской философии, и XX в. – в творчестве Ж. Маритена. Эта парадигма ориентирует на познание мира абсолютного и объективного. Хотя любое объективное знание детерминировано конкретным опытом, из него произрастает и несет на себе его отпечаток, равно как и след техносферы, опосредующей отношения между субъектом и объектом. В парадигме “cogito”, напротив, задается антропологический ракурс: протагоровское утверждение, что человек есть мера всех вещей, поясняет эту позицию. Однако, и декартовская, и кантовская философия, отвечающие этой парадигме, приходят к выделению трансцендентального разума, который только и может быть условием для познания. Впрочем, ни одна доминировавшая в культуре парадигма не была исчерпывающей в объяснении главных вопросов бытия и познания, и в Новое, а еще более в Новейшее время в рационалистической традиции усматривали корень заблуждений фаустовской культуры. Э. Гуссерль резюмировал: «…форма развития ratio, сложившаяся в рационализме эпохи Просвещения, представляла собой заблуждение, хотя и заблуждение вполне понятное. …Все эти проблемы вытекают исключительно из наивности, о которой объективистские науки то, что они называют объективистским миром, считают за универсум всего сущего, не замечая при этом, что двигающая науку субъективность не находит себе места ни в одной из объективных наук»[36]. С такой же безапелляционностью и ясностью близкую мысль высказал Э. Геллнер: «Разум порождает единый, натуралистический мир, в котором для него нет места»[37]. Ирония заключается в том, что рационализм, будучи наследником монотеизма, унаследовал от последнего и «тоску по трансцендентному», которая не может быть преодолена объяснением законов природы без обращения к Другому, не сводящемуся только к реальному Другому. Реальный Другой – это всегда трансцендентальный Другой, умопостигаемый, это – объект, который познается, не будучи при этом задающим перспективу. Как не удивительно, а именно в христианстве, которое носителями фаустовской культуры рассматривалось в качестве первопричины ее ухода и деградации, прозвучала идея обращения к трансцендентальному Другому при сохранении трансцендентного истока, Смысла. Но это – мысль в сторону. Критика рационализма началась со смены классического идеала рационализма неклассическим, с установления парадигмы “existenz”, призванной уравновесить разум и экзистенцию, единичное и универсальное. Однако, поворот к онтологии не привел к новому открытию трансцендентного. М. Хайдеггер констатировал, что нигилизм стал исторически закономерным состоянием западноевропейской культуры после того, как сверхчувственный мир идей обесценился, перестал быть побудительной силой, опорой для человека. Недоверие к ранее незыблемым верховным ценностям полностью «перестраивает» самое сознание, и «в меру этого нового сознания меняется отношение человека к сущему в целом и к самому себе»[38]. Новоевропейская концепция человека как субъекта, таким образом, также оказывается поставленной под сомнение. Существование, невыразимое рационалистическими способами, оказывается замкнутым на самом себе. Но что такое уникальное без возможности прорыва к универсальному, единичное, устранившее возможности познания и выхода ко всеобщему? К. Ясперс заметил: «Экзистенция нуждается в другом, а именно в трансценденции, благодаря которой, она, не создающая самое себя, впервые выступает как независимое начало в мире; без трансценденции экзистенция становится бесплодным и лишенным любви демоническим упрямством»[39]. Но именно сама возможность трансценденции и была исключена в просвещенческом проекте человека. Человек самого себя стал воспринимать как объект, но следующего этапа – обращения к себе как к Другому, ценностного отношения, восприятия своего индивидуального начала как связанного со Смыслом, истоком, а не только с разумом не обнаружилось, как не обнаружилось его и во вне: «взгляд в себя» поверг в бегство к себе внешнему, наделенному формами гипертрофированного нарциссизма, персонализма эпохи Постмодернизма. Данная тенденция, возникшая синхронно со становящимся «технологическим» стилем мышления, является его предпосылкой, но отнюдь не следствием. С. С. Гусев предположил, что «технизация» индивидуального сознания, заданная уровнем развития техносферы, формирует такие образцы восприятия реальности, где граница между субъективным и объективным стирается, где бессубъективность имеет свое историческое оправдание и «берет реванш» у преобладавших ранее индивидуально- личностных форм сознания и познания действительности, устанавливая нормы и стандарты социального поведения, стимулирующие развитие технологического мышления[40]. Е. Д. Павлова высказалась более категорично, поставив проблему социально-информационного взаимодействия сознания и социума, понимая под информационным воздействием на сознание «процесс изменения смыслов (знаний, мнений, представлений, понятий, суждений личности и т. д.) посредством трансформации информационной матрицы сознания»[41], иначе – целенаправленная манипуляция индивидуальным сознанием, его массовизация, которые являются свидетельством нарастающих, но управляемых антисубъектных тенденций в обществе. Упорядочивание хаоса и созидание порядка, лежащие в основе познавательной деятельности и формирующие субъекта, становятся проблематичными в силу того, что сам субъект предстает здесь фрагментированным, дезориентированным в инфосфере. Поэтому кризис идентичности как индивидуальной, так и групповой становится одной из наиболее обсуждаемых в гуманитарных науках тем. Нетривиальный взгляд высказала Н. М. Смирнова: отправным пунктом ее размышлений стал анализ трансформаций социальной реальности позднего Постмодернизма и их проекция и воздействие на субъекта. Метаморфозы социальной реальности, по мнению исследовательницы, характеризуются размыванием устойчивых социальных границ и, как следствие этого процесса, масштабной массовизацией современных обществ, приводящей к тому, что, «утратив первичную социальную группу – «социальное зеркало» индивидуальности, – человек теряет коммуникативную поддержку субъективной реальности». На смену конкурентоспособному субъекту раннебуржуазного общества приходит актор, «дорефлексивно прилаживающийся к происходящим социальным изменениям» [42], напоминающий мифологический образ Протея. Однако, очевидно, что множественная идентичность субъекта является адаптивным механизмом в социальном мире «текучей современности», зеркально отражая дифференцированную активность субъекта, включенного в различные социокультурные связи. Разорванность, фрагментация и подвижность «внутреннего пространства» субъекта, усложняющая сохранение единства и устойчивости его «Я», отвечает основному требованию динамически изменяющегося мира – требованию мобильности. Неопределенность становится фундаментальным принципом глобализирующегося социокультурного пространства, во многом, действительно, инициированная миграциями, мультикультурализмом второй половины ХХ в., типичной для большинства западноевропейских стран культурной ситуацией, распространением интернациональной массовой культуры, глобальной инфосферы, работающей с неопределенностью. Не представляя качественно новой вехи в историческом развитии, информационное общество характеризуется, прежде всего, возросшей в социокультурном пространстве ролью теоретического знания. И, поскольку между энтропией и информацией существует взаимосвязь, в инфосфере аккумулируются и смешиваются разноуровневые потоки информации, ценная информация генерируется наряду со спамом. В этом смысле состояние динамического хаоса – естественное состояние самоорганизующейся инфосферы – утомительно для человека. А. А. Тихонов предположил, что сам способ хранения и передачи информации в аудиовизуальной культуре препятствует преодолению, или снятию, неопределенности. Если в книжной культуре линейно и логично выстроенный текст являлся основой развития рационалистических способностей человека, то в экранной культуре доминируют образные, внерациональные в своей основе, способы передачи информации, которые и формируют пассивность, «кинематизм» субъекта: «структура, как сознания, так и духовного мира в целом, субъективной реальности отдельного человека приобретают гетерогенный, неструктурированный – «войлокообразный» характер»[43]. С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти: интернет-страница представляет собой гипертекст, синтезирующий и аудиовизуальную, и текстовую информацию, актуализируя и образный, и логический типы восприятия информации. Другой вопрос – уровень и качество информации, но он определяется интеллектуальными запросами пользователя. И в данном случае нужно дифференцировать как умную атомизированную толпу от молчаливого большинства общества потребления, так и дивида Постмодернизма, ведомого и манипулируемого медиальным Другим, от актора Метамодернизма. По сути, обращение к себе (мантра позднего Постмодернизма, когда даже Фуко вернулся к субъекту) – частное проявление самопознания, рефлексии, выступающее условием концентрации, самоорганизации субъекта. «Заповедь Дельфийского оракула» более других заповедей стала основой для самоорганизации субъекта, его рефлексивной составляющей и одновременно автопроектированием и самоактуализацией, поскольку самопознание неизбежно включает самоконструирование и раскрытие свернутых потенциальных возможностей: перманентная динамика пластической формы, освещенная лампой Диогена. Только эта самоорганизация может предполагать Другого, а может совершаться автономно. У. Джемс, в начале ХХ в. исследовавший феномен обращения в контексте рассмотрения мистического и религиозного сознания, т. е. того типа самоорганизации субъекта, который предполагает контекст, направленность сознания на Другого, в частности, отмечал: «Обращение, возрождение, обретение благодати и веры, достижение внутреннего мира – все это выражения, обозначающие медленный или внезапный процесс, которым раздвоенная и сознающая себя недостойной и несчастной душа приходит к внутреннему объединению, к состоянию своей праведности и к ощущению счастья: она находит твердую опору в своей вере в реальность того, что ей открыли ее религиозные переживания. Таков общий смысл понятия «обращение» безотносительно к тому, верим ли мы или нет, что для такого нравственного перерождения необходимо непосредственное вмешательство Божественной Силы»[44]. Обращение к себе было подробно рассмотрено и у постмодерниста М. Фуко вне «страховочных лент» Другого, контекста, именно как принцип «заботы о самом себе», где «присутствует идея реального движения субъекта по отношению к самому себе. …Перемещение, траектория, усилие, движение – все это должно содержаться в идее обращения к себе, – и далее, – нет иного основного и полезного очага сопротивления политической власти, кроме отношения своего «Я» к самому себе»[45]. Принцип заботы выступает, таким образом, как условие противостояния, критического отношения субъекта к поверхностному, размывающему его внутреннее пространство информационному шуму, составляющему неотъемлемую часть повседневности. Однако только в сохранении своей «точки стояния» нет движения и роста. В. П. Визгин проанализировал концепции Фуко и Адо и пришел к выводу, что, подобно тому, как «Сенека находит радость своей жизни не в Сенеке, но трансцендируя Сенеку», так и «стоический философ тогда обретает самого себя, достигая тем самым радости существования, когда он, выходя в универсальное измерение бытия, преодолевает себя в качестве ограниченного эгоистического индивида», т. е. «в противовес Фуко Адо подчеркивает, что самотрансцендирование самости происходит в ценностно иерархизированной структуре» [46].
Субъект позднего Постмодернизма отвечает также понятию «лица», данного Р. Гвардини: «лица», которое более не претендует, но сохраняет, осознавая свою единичность, «неустранимую в ответственности»: «…быть лицом …быть, следовательно, в состоянии отвечать за свои поступки и вступать в действительность, исходя из внутренних побудительных сил. Именно это делает каждого человека единственным. Не в том смысле, что каждый одарен некими особыми, только ему присущими свойствами, а в том ясном, безусловном смысле, что каждый, будучи однажды поставлен Богом в самом себе, не может быть ни замещен, ни подменен, ни вытеснен»[47]. Субъект позднего Постмодернизма лишь отсылает отдаленно напоминая субъекта- первооткрывателя века рационализма. Понимание этого факта сопровождается и осознанием того, что субъект, субъективная реальность – социально-культурная конструкция[48], демонстрируя тем самым наметившийся в культуре переход к парадигме “affirmo”. Здесь открывается новая перспектива: поскольку только в объективированных результатах человеческой деятельности, в культуре, утверждается бытие человека и прочитываются исторические метаморфозы его становления.
Субъект в контексте культурного пространства. Субъект – это созидаемая или, напротив, устранимая из исторического поля социокультурная реальность, сопряженная с определенными критериями и нормами социальности, распространенными в конкретной культурной, социо-экономической и политической средах, и представлением человека о своем предназначении, заинтересованности в раскрытии своих потенциальных возможностей, самоактуализации, что отчасти тоже опосредованно его культурной средой (о чем говорилось выше), но также его личной заинтересованностью в участии и написании книги своей собственной жизни, воспринимаемой ценностно, а не инструменталистски (= техницистски; хотя, очевидно, что подобное самоотношение проецируется и на окружающий мир со всеми наблюдаемыми и переживаемыми последствиями). Поэтому интенсивность освещения фонаря Диогена изменчива. Г. В. Иванченко, в частности, отмечала:
«Историческое развитие той или иной культуры, смена культур, эволюция картин мира – во всех такого рода процессах важную роль играет «новая личность», понимающая, переживающая, действующая не так, как раньше. Поиск нового человека – это, в известной мере, поиск нового типа социальности»[49]. Философ выделила три типа социальности, «концепции человека», сложившиеся в западноевропейской цивилизации: 1. «новый человек», предполагающий движение через прорыв, кардинальное обновление, снятие ранее существовавших базовых культурных матриц и введение новых; и такому типу социальности ближе всего соответствует образ авангардиста-революционера, «новый человек» не подразумевает более высшую ступень духовно- нравственного развития; новый, т. е. иной по сравнению с ранее существовавшим типом социальности; 2. «совершенный человек», работающий с предшествовавшими культурными кодами и совершающий их модификацию, частичное изменение и приходящий к определенным результатам в медленном поступательном становлении не столь скачкообразно, как «новый человек»; и, наконец, 3. «идеальный человек», включающий в себя совокупность воспринимаемых в обществе как идеальных характеристик, некий трансцендентальный образ, к которому необходимо стремиться, и уже в самом процессе стремления воспитывается и утверждается желаемый образ социальности. Хотя здесь же Г. В. Иванченко акцентировала: «Все концепции «нового человека», «идеального человека», «совершенного человека» были бы изначально обречены на провал, если бы человеку не было свойственно стремление к совершенствованию мира и самосовершенствованию. И у взрослого человека общее, генерализованное отношение к совершенству – позитивное или негативное – в значительной степени воспроизводит изначальное разделение «Я» и «не-Я»: то, что в образах совершенства не противоречит нашей картине мира, принимается, то, что в образах совершенства никак не пересекается с представлениями о нас самих – отвергается»[50]. Но как быть с тем, принятым в обществе образом «совершенства», главная «помеха» которого – это «я»?! Поскольку субъект – социокультурная реальность, его проблематично «взрастить» в условиях диктата атомизированной толпы. Бессмысленно его «собирать», чтобы впоследствии подвергнуть прессингу. Но необходимость субъекта обнаруживает глобальный дефицит гуманитарного знания, проявляющийся в забвении человеческого в человеке при интенсивном усложнении техносферы, «цивилизационной оболочки». Определение субъекта через творчество, в котором он обнаруживает и проявляет себя, и в то же время самосозидается, было предметом исследования школы С. Л. Рубинштейна. Психолог разрабатывал философские основания педагогики, полагая, что, поскольку «тем, что он (субъект) делает, можно определять то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать его самого»[51]. Хотя совершенно очевидно, что данное направление культурной политики реализуемо в обществе, базирующемся на ценностях неприкосновенности и уважения к личности, и с трудом применимо в социуме, поддерживающем антисубъектные тенденции (стандартизации жизни, однопартийности, политизации и управленим СМИ и т. д.). Поэтому последователь С. Л. Рубинштейна А. В. Брушлинский настаивал на том, что становление субъекта начинается с детского возраста, а не происходит скачкообразно в зрелости[52]. Суть в том, что «обращение к себе» является механизмом самозащиты в ситуации давления инфосферы (и не только) и определяет отделение и противопоставление субъектом себя окружающей действительности, но не выделения из нее с целью ее преобразования, что, в первую очередь, сужает пространство свободы самого субъекта, т. е. ограничивает возможности его самореализации, во- первых. Во-вторых, «обращение к себе» характеризует состояние субъекта, оказавшегося наедине с историей и усомнившегося в традиции, которую он не в силах ни преступить, ни продолжить, – остановившегося в себе на полпути.
26
Саймон Г. Науки об искусственном. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – С. 36.
27
См. Хюбнер Б. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, просчеты и сведения счетов. – Мн.: Экономпресс, 2006.
28
Фромм Э. «Иметь» или «быть». – М.: АСТ МОСКВА, 2008. – С. 40.
29
Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. – Мн.: Логвинов, 2004. – С. 15, 17.
30
Рьюз М., Уилсон Э.О. Дарвинизм и этика. // Вопросы философии, 1987. – № 1. – С. 101.
31
Кампер Д. Взгляд и насилие. Будущее очевидности. / Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сб. ст. – СПб.: Изд-во Рус. Христианской гуманитарной академии, 2010. – С. 60–61.
32
Смирнова Н.М. Трансцендентальная интерсубъективность, проблема «чужих сознаний», искусственный интеллект. / Искусственный интеллект: междисциплинарный подход. Под ред. Д.И. Дубровского и В.А. Лекторского. – М.: ИИнтеЛЛ, 2006. – С. 166.
33
Гвардини Р. Конец нового времени. // Вопросы философии. – 1990. – № 4. – С. 145.
34
Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2018. – С. 362–363.
35
См. Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления. // Философские науки. – 1991. – № 6. – С. 16–29.
36
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. // Вопросы философии. – 1986. – № 3. – С. 111–113.
37
Геллнер Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма. – М.: Московская шк. полит. исследований, 2003. – С. 243.
38
Хайдеггер М. Ницше и пустота. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. – С. 113.
39
Ясперс К. Разум и экзистенция. / Цит. по Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ в. – М.: Республика, 1997. – С.303.
40
Гусев С.С. Размывание границы между субъектом и объектом. / Грани познания: наука, философия, культура в XXI в.: В 2 кн. Кн. 1. Отв. ред. Н.К. Удумян. – М.: Наука, 2007. – С. 142–145.
41
Павлова Е.Д. Сознание в информационном пространстве. – М.: Academia, 2007. – С. 27.
42
Смирнова Н.М. Коммуникативный опыт современности и проблема теоретической репрезентации социального / Грани познания: наука, философия, культура в XXI в.: В 2 кн. Кн. 1. Отв. ред. Н.К. Удумян. – М.: Наука, 2007. – С. 293, 295.
43
Тихонов А.А. Субъект познания и неопределенность. – М.: Лабиринт, 2004. – С. 131.
44
Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – М.: КомКнига, 2010. – С. 157.
45
Фуко М. Герменевтика субъекта. // Социо-логос, вып. 1. – М.: Прогресс, 1991. – С. 306, 307.
46
Визгин В.П. На пути к другому: От школы подозрения к философии доверия. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 20, 21.
47
Гвардини Р. Указ. Соч. – С. 146.
48
Лекторский В. А. Умер ли человек? // Человек. – 2004. – № 4. – С. 14.
49
Иванченко Г. В. Совершенство в искусстве и в жизни. – М.: КомКнига, 2007. – С. 43–44.
50
Там же. – С. 69–70.
51
Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы философии. – 1989. – № 4. – С. 94.
52
Брушлинский А.В. Психология субъекта. – СПб.: Алетейя, 2003. – С. 206.